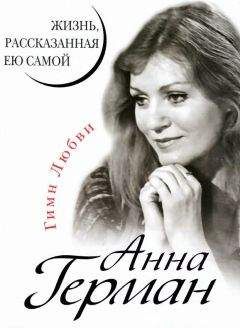Волк вышел на свет вместе с ней, когда удивленный и безумный взгляд темных глаз отца приковал ее к месту под деревьями, под которыми стояла бледная, призрачная фигура девочки. Ее все еще согревало иное тепло, не жар огня, и не любовь человеческая, а черная шуба, которой не мог достичь света пламени и поднимающихся рыже-багряных искр, даже воссиявшая луна не освещала черноту смуглой шкуры.
Иветта подняла беззащитный и полный мольбы взор на испуганного и пораженного мужчину, на захлебывающуюся в слезах отчаяния женщину, опускающую на колени дрожащие от холода и внутреннего испуга руки. На лицах обоих читалось неверие, словно они увидели, как проклятие расплывается по нависшим веткам деревьев, что опускались льдинисто-голубым водопадом на ее голову. И вместо замерзших крон к ее мертвенно-белому лику опускалась громадная змея, чьи резцы сочились черным и рубиновым ядом, омывая в окаянных темных водах. Бледный призрак выползал из пасти змея, обнимая в сизо-пасмурных туманах ее плечи, заливаясь озорным и довольным смехом, ухмыляясь коварством. Иветта сделала шаг в сторону света, и ее отец мгновенно вытащил из-за спины серебряное ружье, в молниеносном движении распарывая кожаную кобуру, заскользившую по снегу, но его горящие от слез и возбуждения глаза быстро переместились на чудовище в безмятежном хладнокровии не спускавшим алых глаз с заостренными черными зрачками с широкого дула. Дыхание мужчины было тяжелым, черты его лица искривились, когда он тихо произнес надтреснутым и строгим голосом:
— Иветта, иди сюда.
И не оглядываясь на зверя, девочка медленно двинулась в сторону матери, поднявшейся с расстеленных циновок, опираясь на колени обоими руками, словно боялась упасть. Иветта не страшилась острых клыков и когтей, что в секунду могли распороть брюхо и вырвать внутренности наружу, как в туманных тенях разойдется черная оболочка, а рык разнесется эхом средь чернильной пущи, когда его блестящие зубы вонзятся в горло остальных людей, что находились в бараках недалеко раскинувшегося у подножья гор каравана. Она знала, что черный волк, сопровождавший ее, не причинит зла, а будет защищать. Будет охранять покой и благостную тишину ее мирного сна глубокими ночами, когда снаружи будет распоясывать метель. Когда она ступила в спасительный щит объятий матери, то услышала оглушительный выстрел, от которого стая воронов, притаившихся на деревьях, взметнулась вверх, оставляя после себя хор грубого и гневного карканья. Она не оборачивалась, когда останки волка пали на белоснежный снег, и адамантовый оттенок его шкуры сливался с молочной белизной. И прижимаясь всем телом к знакомой нежно-бежевой парке из зайца, ей хотелось плакать. Все еще не оборачиваясь, она видела наяву, как пуля пробила правый волчий глаз, пройдя сквозь твердую черепушку, раздробив кости, и кровь растекалась багряной рекою по застывшей и затаившейся в молчании земле. И не закрывая глаз, с кончиков ресниц ее потекли слезы скорби и непереносимого горя, как если бы ее только что лишили бесценного и дорогого друга. Под кожей своей она чувствовала жар, что жаждал вырваться наружу, но трепещущие пальцы, сжимавшие друг дружку, удерживали ее от всплеска рыданий. Родители решили, что эмоции вызваны пережитым и увиденным, услышанным и вкушенным, но она не рассказывала им того, с чем столкнулась, и они больше никогда не упрашивали ее открыться. Шубу и украшения, и красные башмачки сожгли в ту же ночь, а Иветту не показывали людям, боясь навлечь ярость верующих и послушников, что поклонялись высшим отпрыскам ночи, надеясь в молебнах и проповедях найти толику услады продолжая существование в бедноте. Хотя на площадях городов и рынках они надевали дорогие одежды и браслеты из чистого золота, уверяя остальных, что благодаря их искренним служениям, аристократы щедро одаряли их. Отец был убежден, что все богатства они собирали с прихожан, наведывающихся в их храмы, обирая до последней нитки и юнцов, и стариков. Той ночью она так и не смогла заснуть, ей все еще виделись очертания черного волка. Иветта свернулась калачиком в шкурах рыси, смотря, как тлеют еще не погасшие угли в палатке, а громадная тень волка возлежала на больших лапах возле огня. Чуть свесив уши, он продолжал наблюдать за ее ничтожными попытками уснуть, прикрывая ярко-красные глаза вместе с ее иссиня-изумрудными глазами.
Когда ранним утром, едва солнце озарило зимний горизонт, и небо рассыпалось в цветах розоватого и златого, их караван поспешно собирался, чтобы покинуть границу и отправиться подземным поездом, украденным повстанцами, в Османскую Империю, отец снова отправился в чащобу, где прошлой ночью пытался отыскать потерявшуюся дочь и проверить тело падшего волка. Ее отец был лучшим среди охотников, и нигде он не мог чувствовать себя более уверенно, нежели в лесу. Он не боялся ни диких зверей, ни одичалых призраков, рыщущих в поисках духовной пищи и кровавой расплаты. И в тот день он безошибочно нашел место, которое искал. Но, ни волка, ни кровавых следов от оставленных выстрелов не было, и только золотые вставки, завалявшиеся среди золы и угля, красовавшиеся на ее ботинках сверкали в свете зари, словно являя собой напоминание, что произошедшее ночью не было сновидением и обманчивой иллюзией непослушного разума.
* * *
Сны о прошлом редко навещали ее, но если приход горьких видений был неизбежен, то они беспощадно осыпали ее буйным потоком, который она не могла остановить, даже применяя всю силу выдержки. Воздух был спертым и затхлым, с густой примесью сладкого дыма, и в то же время холодным. Ей отчаянно не хватало кислорода, и когда растрескавшимися губами она приоткрывала рот, девушка глотала дыхание ненасытно и вожделенно, жадно. Одежда мешалась, затрудняя путь воздуха к легким, ей хотелось все сорвать с себя, а не мучиться в горячей влаге, пропитавшей старую и изношенную ткань потом, кровью и нечистотами и объятиями безгласных духов, изодранный в клочья плащ походил на клещи, смазанные ядовитыми жидкостями. И Иветта с удовольствием бы разрезала тунику на мелкие полосы кинжалом, но слабость в теле была столь непреодолимой, что любая мысль или попытка пошевелиться, вызывали отчуждение и рвоту, как если бы от одного движения, вся желчь, копившаяся неделями от скудной пищи и постоянного голода, мгновенно вышла наружу. Влажные темные пряди прилипали к загорелой коже, ресницы слипались между собой, а по кончикам пальцев плелась тонкими струями алая кровь, прямо из кутикулы, подушечки пальцев налились свинцом, в них словно вставили раскаленные иглы. Захлебнувшись тихим плачем, она попробовала открыть плохо видящие глаза, но пространство мутнело и бледнело, очертания стирались в дымке, как исчезают небосклоны на рассветах, занесенными облаками. Зрение ухудшалось каждый раз, когда ее навещали видения, особенно если с ними проступали приступы в реальности, а не во сне. Со сном можно было справиться, тогда как в бодрствовании, она медленно сходила с ума, и порой, не успев скрыться до того, как бездна полностью завладеет телом, она валилась наземь в том месте, где останавливались ноги. Физическая форма становилась дряблой, она не ощущала присутствия собственного духа внутри тела, кости становились ватными и хрупкими, сознание терялось впотьмах. Она просыпалась в бараках обездоленных болезнями и чумой, в глубоких мусорных ямах, кишащими существами хуже вшей и столичных крыс, в домах наслаждения на красных улицах. И новое пробуждение не дарило ничего кроме неистового желания погрузиться в новое забвение, что унесет ее в вечность. Каждый нерв тела отзывался болью, и душный полог мрака надменно озарялся над ее челом, глаза подернулись поволокой, когда Иветта попыталась повернуть голову и заставить себя разлепить отяжеленные ресницы. Она бессознательно пошевелила рукой, но ощутила на плече тяжесть и прикосновения чужих пальцев, кожа к коже, но руки прикасавшегося были мягкими, как бархат, и холодными, как зимняя ночь. И Иветта готова была бесстыдно стонать, когда умалявший внутренний жар хлад покинул ее, нещадно отпустил мимолетное наслаждение, ввергая в пучину новых страданий. Голова металась из стороны в сторону, как в лихорадочном бреду, и заботливые руки мягко обвели ее плечи, приподнимая, со всей осторожностью, и нежным вниманием укладывая голову на воздымающиеся перины. Она приоткрывала свои губы, упиваясь глотками воздуха, когда в рот полилась вода, игристым и свежим ручьем наполняя горло влагой, прекращая страдальческие муки последних часов, что показались вечностью. Она со всей неумолимой жадностью припала губами к фарфоровой пиале, стараясь поднести руки к подбородку, чтобы полностью насытить тебя, но глубокий голос, сочившейся спокойствием и ласкаю, твердо произнес: