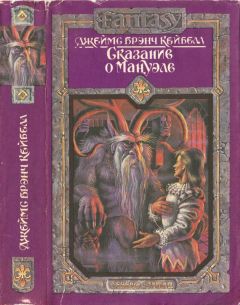— Конечно да, ибо у короля нет господина, и он волен повсюду путешествовать, чтобы увидеть пределы этого мира и их оценить. Конечно, да. Во всяком случае, в мире, где нет ничего определенного.
— Если б я хоть вот настолечко поверила этому, я попыталась бы достать Шамир и тебя испытать.
— А что такое этот чертов Шамир?
— Оговорка, — с улыбкой ответила Алианора. — Нет, я не хочу иметь ничего общего с твоими дурацкими фигурами из грязи, и больше я тебе ничего не скажу.
— Ну полно, девочка моя! — сказал Мануэль. И он начал осыпать принцессу Провансскую такими комплиментами, какими этот статный юноша прежде завоевывал крестьянских девушек Ратгора.
— Шамир, — наконец проговорила Алианора, — это камень в перстне, хорошо известном в стране по ту сторону огня. Шамир похож на черную галечку, но если после специального обряда коснуться им любой из твоих фигур, фигура оживет.
— В общем, — сказал Мануэль, — вся беда в том, что, если я попытаюсь пройти сквозь огонь, чтобы достичь этой страны, я сгорю, и не видать мне этого талисмана.
— Для того, чтобы его получить, — поведала ему Алианора, — нужно сварить вкрутую яйцо из соколиного гнезда и положить его обратно, а самому прятаться поблизости от ветви под красно — белым зонтиком. Когда соколиха обнаружит, что одно яйцо не насиживается, она улетит, бросится в ближайший огонь и вернется с кольцом в клюве, чтобы коснуться яйца и этим возвратить его к жизни. В этот миг ее нужно подстрелить, и кольцо окажется у тебя, прежде чем соколиха вернет талисман его владелице, которой — тут Алианора сделала непонятный жест, — которой является королева Аудельская Фрайдис.
— Ну, — сказал Мануэль, — и какой мне прок в этом посреди зимы! Пройдут месяцы, прежде чем соколы совьют гнезда.
— Мануэль, Мануэль, тебя не поймешь! Неужели ты не видишь, что некрасиво, когда взрослый мужчина и более того, прославленный герой и могущественный кудесник дуется, злится и топает ногами, вообще не имея никакого терпения?
— Да, полагаю, это некрасиво, но ведь я — Мануэль, и я следую…
— Ох, избавь меня от этого, — воскликнула Алианора, — или иначе — неважно, как сильно я тебя люблю, дорогой, — я надаю тебе оплеух.
— Тем не менее то, что я собирался сказать, верно, — заявил Мануэль, — и если б ты только в это поверила, отношения между нами стали бы намного глаже.
Теперь история рассказывает, как для успокоения Алианоры граф Мануэль занялся магией Апсар. Он отправился вместе с принцессой на одну уединенную возвышенность, и Алианора, сладкоголосо прокричав по — древнему: «Тороликс, Чиччабау, Тио, Тио, Торолилиликс!», произнесла соответствующие заклинания, после чего со всех сторон ниспадающим потоком красок, крыльев, свиста и писка появилось множество птиц.
И павлин закричал:
— Какой мерой судишь других, такой будешь судим сам.
Соловей пропел:
— Удовлетворенность — величайшее счастье.
Горлица отозвалась:
— Некоторым тварям лучше было бы никогда не быть сотворенными.
Чибис прочирикал:
— Тот, у кого нет милосердия к другим, не найдет его и по отношению к себе.
Аист сипло сказал:
— Сей мир преходящ.
А клич орла был таков:
— Как бы ни длинна была жизнь, ее неизбежный конец — смерть.
— Это, в сущности, то, что сказал я, — заявил аист, — и ты — пошлый плешивый плагиатор.
— А ты, — ответил орел, вцепившись аисту в горло, — мертвая птица, которая никогда больше никому не принесет детей.
Но дон Мануэль придержал орла за крыло и спросил, действительно ли тот имеет это в виду и отстаивает свое заявление в силе перед Птичьим Судом. И когда разъяренный орел раскрыл свой безжалостный клюв и разжал когтистую лапу, чтобы торжественно поклясться, что в самом деле намерен растерзать аиста последний весьма благоразумно улетел прочь.
— Я никогда не забуду твою доброту, граф Мануэль — крикнул аист, — и помни, что я исполню для тебя три желания.
— И я тоже благодарен тебе, — сказал остывший орел, — да, честное слово, я благодарен, ибо, если б я убил этого длинноногого паразита, это явилось бы оскорблением суда, и меня бы посадили высиживать красных василисков. К тому же, его упреки справедливы, и мне нужно выдумать новый клич.
Так что орел уселся на скалу и на пробу произнес:
— Можно быть чересчур гордым, чтоб драться. — Он с отвращением покачал головой и попытался еще раз: — Единственный прочный мир — мир без победы, — но это, похоже, его также не удовлетворило; затем он выкрикнул: — У всех, кто противостоит мне, ничтожные мозги, — а потом: — Если все не сделают именно то, что я приказал, сердце мира разобьется. — И множество другой ерунды он повторял и снова качал головой, ибо ни одна из этих аксиом не доставляла орлу радости.
Так что озабоченный поисками высказывания, достаточно звучного и бессмысленного, но пригодного для выкрикивания в качестве великого морального принципа, орел совершенно забыл о графе Мануэле. Но аист не забыл, поскольку в глазах аиста его жизнь была ценна.
Остальные птицы произносили различные мысли вроде приведенных выше, и все они, как сказал Мануэль, обладали признанными чарами. Громадный желтоволосый юноша не стал спорить: он редко спорил о чем бы то ни было. Прищурив свой любопытный левый глаз, он признался Алианоре, что удивляется, правда ли подобные тщедушные, ограниченные источники в самом деле являются вершинами мудрости, не считая религии и публичных выступлений. Затем он спросил, какая птица самая мудрая, и ему сказали, что это Жар — Птица.
Мануэль попросил Алианору позвать Жар — Птицу, которая слыла самой старой и ученой из всех живущих тварей, хотя она, конечно, не научилась ничему, кроме того, как держаться. Появилась Жар — Птица и устало крикнула:
— Птиц красят перья.
Ее было слышно издалека, и у Жар — Птицы имелись все основания тешить себя этой аксиомой, ибо ее оперение было сверкающе — пурпурным, за исключением золотистых перьев на шее и голубого хвоста с более длинными перьями красного цвета. У нее были витиеватые сережки и хохолок, а на вид она казалась чуть крупнее орла. Жар — Птица принесла с собой гнездо из кассии и веточек ладана, положила его на покрытые лишайником камни и, сев в него, начала беседовать с Мануэлем.
Легкомысленный вопрос относительно глиняных фигур, поднятый Мануэлем, Жар — Птица посчитала обычной человеческой глупостью. И мудрое существо было вынуждено указать, что ни одна благоразумная птица никогда не мечтала о создании изваяний.