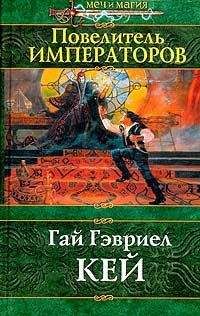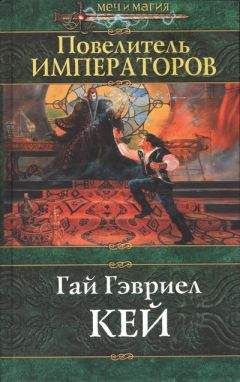Это принадлежало только ему одному, он не должен был отчитываться ни перед одной живой душой. Не надо было получать одобрения заказчика, создавать произведения, равные блестящему архитектурному сооружению, понимать его и быть в гармонии с ним. Каким-то странным образом Криспина весь год не покидало ощущение, что он обращается к еще не родившимся, не живущим людям, к поколениям, которые когда-нибудь, может быть, войдут в эти двери и увидят эти две мозаики, сотни лет спустя или позже, посмотрят вверх и поймут… то, что смогут понять.
В Сарантии он принимал участие в чем-то колоссальном, в совместном проникновении в будущее, выходящем за рамки человеческих возможностей, — и всему этому суждено исчезнуть. Доказательство его участия к этому моменту уже, наверное, уничтожено.
Здесь его стремления были столь же честолюбивы (он это знал, и Мартиниан, который каждый раз смотрел и молчал, знал это), но они были совершенно, решительно, глубоко земными по масштабу.
Возможно, именно поэтому мозаики сохранятся надолго.
Он не знал этого наверняка. (Да и как может знать человек?) Но здесь, в этом мягком, добром свете Криспин целый год и даже дольше (снова лето, за стенами темно-зеленые листья, пчелы на полевых цветах и живых изгородях) выкладывал камешки и смальту, чтобы оставить что-нибудь после себя, когда умрет. Кай Криспин Варенский, сын Хория Криспина, каменщика, провел здесь, на господней земле, отмеренное ему время и немного разбирался в человеческой природе и в искусстве.
Поглощенный этим, он прожил год. И вот теперь больше делать было нечего. Он только что закончил последнюю вещь, которую никто никогда не делал в мозаике до него.
Он все еще стоял на перекладине лестницы у северной мозаики, которую только что закончил. Он подергал себя за бороду, которая снова отросла и стала длинной, как и волосы, вовсе не такие приглаженные, какие должен иметь богатый и известный человек, но он был… занят. Криспин повернулся, зацепившись рукой за перекладину, чтобы сохранить равновесие, и посмотрел на южные двери напротив, на арку стены над ними, где он выложил первую из своих двух панелей.
Не Джад. И не Геладикос. Ничего, что наводило бы на мысли о святости или вере. Зато там, на широком сверкающем великолепном панно на стене, в тщательно рассчитанном для всех времен года и дней потоке света (а он сам развесил там крючки для ламп) стояли император Сарантия, Валерий Третий, который прежде был Золотым Леонтом, и его императрица Гизелла, приславшая эту смальту, подобную драгоценным камням, вместе с обещанием, которое давало Криспину свободу.
По обеим сторонам от них стояли придворные, но работа была выполнена таким образом, что только две центральные фигуры были тщательно выполнены, яркие, золотые, живые (они оба были действительно золотыми: их волосы, украшения, золото на одеждах). Придворные, мужчины и женщины, были изображены условно, однообразно, в древнем стиле, их индивидуальные черты стирались, и только легкие отличия в обуви и одежде, позах и цвете волос предлагали намек на движение взгляду, который все время возвращался к двум фигурам в центре. Леонт и Гизелла, высокие, молодые, прекрасные, овеянные славой дня своей коронации (которой он не видел, но это неважно, совсем неважно), сохраненные здесь (получившие здесь жизнь), до тех пор, пока камни и стеклышки не упадут вниз, или не сгорит здание, или мир не придет к концу. Повелитель императоров придет, обязательно придет и сделает их старыми и заберет обоих, но эти образы останутся здесь.
Панно закончено. Он сделал его первым. Оно получилось… таким, как он хотел.
Криспин спустился вниз, пересек центральную часть маленькой церкви, где давным-давно стоял алтарь бога, перешел на другую сторону и там поднялся по лестнице на несколько ступенек от земли. Потом обернулся и посмотрел назад, на северную стену, в точно такой же перспективе.
Другой император, другая императрица, их двор. Те же цвета, почти в точности. И совершенно другое произведение, утверждающее (для тех, что умеет смотреть и видеть) нечто совсем иное, с любовью.
Валерий Второй, который в молодости был Петром Тракезийским, стоял там, так же, как Леонт на противоположной стене, не высокий, совсем не золотой, уже не молодой. Круглолицый (таким он и был), с редеющими волосами (так и было); его мудрые, насмешливые серые глаза смотрят на Батиару, где зародилась Империя, та Империя, которую он мечтал возродить.
Рядом с ним стояла его танцовщица.
И благодаря игре линий, света, стекла и искусства взгляд зрителя останавливался на Аликсане даже чаще, чем на стоящем рядом императоре, и не хотел покидать ее. «Вот где красота, — поневоле думал зритель, — и нечто другое, нечто большее».
Тем не менее взгляд двигался дальше (и снова возвращался), так как вокруг этих двоих стояли придворные, мужчины и женщины, чтобы и в грядущие века можно было смотреть на них и в них. И здесь Криспин изобразил их иначе.
На этот раз каждая фигура на панно была уникальной. Поза, жест, глаза. Беглому взгляду вошедшего эти два панно могли показаться одинаковыми. Но стоило только присмотреться, и разница становилась очевидной. Здесь император и императрица были жемчужинами в короне среди других драгоценностей, а каждый из их приближенных давал собственные свет или тень. И Криспин, который стал здесь их создателем, их повелителем, написал их имена на сарантийском языке в складках одежды и драпировках, чтобы пришедшие после их знали. Ведь главным для него в этой работе было назвать их, чтобы помнили.
Гезий, престарелый канцлер, бледный, как лист пергамента, с острым умом, подобным клинку; стратиг Леонт (и здесь тоже, так что он изображен на каждой стене); восточный патриарх Закариос, седовласый, седобородый, держащий в длинных пальцах солнечный диск. Рядом с этим священником (неслучайно, здесь нет случайностей) — маленькая темная мускулистая фигурка в серебряном шлеме, ярко-голубой тунике и с хлыстом в руке. И еще меньшая фигурка, босоногая, на удивление, среди придворных, с широко раскрытыми глазами и смешно растрепанными каштановыми волосами, а рядом написано имя Артибас.
Рядом с Леонтом стоял могучий черноволосый румяный солдат, не такого высокого роста, но более широкоплечий, одетый в придворные одежды, но в цвета саврадийской кавалерии, с железным шлемом под мышкой. Рядом с ним — худой бледный мужчина (на приблизительно передающей сходство мозаике он получился еще более худым и бледным) с острыми чертами лица и длинным носом, с внимательным взглядом. Его лицо вызывало тревогу, он с обидой смотрел на пару в центре. Его имя было написано на свернутом пергаменте в его руке.