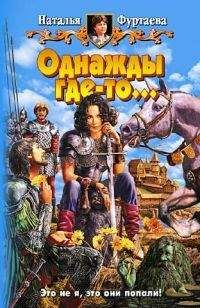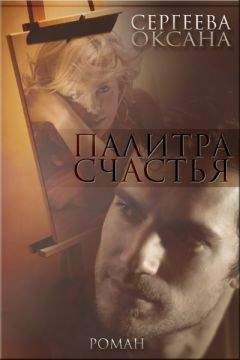— Рабыни-наложницы, — шепнул мне Вереск.
И я сразу возненавидела красавца-караванщика — рабовладелец долбаный!
Звоночек тревоги не смолкал, поэтому я близко к повозкам не подходила, наблюдала издали. Тем более что, спасибо Кедрам, зрение у меня теперь было отменное.
Уже горел костер, и толстый повар суетился у здоровенного казана. Интересно, почему все повара толстые? На нашей заставе кашевар тоже отличается дородностью. Я вдруг поймала себя на том, что думаю о заставе — наша. Да-а, быстро я… Стоян и Нана, закончив разговор, прошли в крепость мимо нас. Меня они, конечно, заметили, но и виду не показали. А мой пугаловский наряд они, похоже, одобрили.
Вечером на гостевом дворе состоялся настоящий концерт. С караваном прибыл какой-то знаменитый заморский бард, который хотел непременно спеть для нашего гарнизона. Хозяин каравана всячески расхваливал его таланты и настойчиво приглашал Стояна и Нану на вечернее представление. Они отказались, но половине гарнизона такое разрешение было дано. Другая половина, кроме дозорных на дальних стенах, слушала концерт прямо со стены, ничего — все было хорошо слышно. Голос у этого барда был такой, что и Шаляпин обзавидовался бы.
В накативших сумерках мы чинным полу кругом расселись с одной стороны костра, с другой стороны устроились караванщики, подобрав под себя ноги. Я с Вереском и с Рысем устроилась позади своих. Рысь все еще не до конца доверял мне, но его присутствие рядом меня устраивало. Звоночек и не думал затихать. Но что за беда меня ждала — так и не прояснилось. Так что пусть уж Рысь меня пасет, надежнее как-то.
Заезжий певец был разодет в какие-то не мыслимой пестроты и яркости тряпки. На шее переливалось радугой ожерелье из самоцветов. Длинные кудри надо лбом были перехвачены золотым обручем с султаном из пышных перьев. Ой, держите меня семеро — Филя Киркоров! его бы еще умыть да подкрасить — копия! Я едва не заржала на Ленкин манер. Пришлось край плаща в рот запихивать, чтобы удержаться. Мои маневры с плащом не остались не замеченными спутниками, но и Вереску, и Рысю они даже понравились. Суровым воинам по-павлиньи разряженный мужик явно претил.
Но вот певец настроил какой-то странного вида инструмент, тихонько тронул струны и запел, и мы сразу простили этот дурацкий на ряд. Сначала пел негромко, заставляя прислушиваться к себе, успокаивая все еще устраивавшихся поудобнее зрителей. Но голос креп, набирал силу и вот уже величаво поплыл над замершим гостевым полем, над засыпающими лесом и озером, проникая через высоченный тын в крепость. Это был настоящий артист — суперстар! Продюсеры бы его в нашем мире друг у друга рвали.
Он пел какие-то баллады о героях, о сражениях и походах, о дальних странах и красавицах, ожидающих своих возлюбленных… Его голос заставлял трепетать от восторга или кусать губы от непереносимого горя, сжимать кулаки от гнева или ронять слезы от нежности и печали. Он владел эмоциями слушателей, как струнами своего сладкозвучного инструмента. Ничего подобного я в жизни не слышала. О-о, его голос был оружием, и оружием страшным. Я постепенно начинала это осознавать, но мысль эта была какой-то вялой, недодуманной.
А певец завел тем временем новую песнь о бесконечной дороге, в конце которой каждого ждет достойная его дел награда. Песнь была тягучей, томной, как долгая утомляющая до рога. Куплет следовал за куплетом, сладкий голос навевал томную сладкую дремоту, нежные переливы струн убаюкивали, как мерное журчание ручейка, усыпляли. И я, невольно подчиняясь голосу, засыпала, уплывала в небытие, где нет ни боли, ни страха, где ждет меня исполнение всех несбыточных желаний…
А где-то на краю сознания уже не звенела колокольчиком, а гремела набатом тревога: «Проснись, проснись, беда!» Я встряхнула головой, с трудом сбрасывая наваждение, вызванное песней, взглянула на своих спутников и с ужасом увидела, что они уже засыпали, да про сто — спали! Страх холодком пробежал по спине, вся шерсть дыбом встала. «Нана! Беда! — возопила я мысленно. — Стоян! Беда!» И получила ответ: «Идем!» Но пока они еще доберутся сюда из-за тына, а опасность уже грозно встала за моей спиной! Я заметила, что не все караванщики уснули. По напряженным позам двух степичей, которые сидели рядом с певцом, я угадала, что они ждут только приказа. И приказ этот будет сейчас отдан. А сколько еще таких не спящих скрывается сейчас в темноте?
«Отец, Всемогущий Боже, вразуми!» — И словно по какому-то наитию или подсказке свыше я вдруг свистнула по-разбойничьи залихватски, да так резко и оглушительно, что певец от неожиданности сбился. Еще в босоногом детстве я свистела громче всех из нашей разновозрастной и разнополой уличной ватаги. Потом не раз приходилось пасти деревенское стадо, уже будучи почтенной матроной. И я по-прежнему молодецким посвистом сгоняла коров в кучу. Вот и пригодилось это бесполезное вроде бы умение. Не дольше удара сердца продолжалась у певца заминка, в сладкий голос струн вкралась лишь одна неверная нота, но этого было достаточно. Приказ не был отдан. Сонный морок, не набрав силу, спал. Воины спешно вскакивали на ноги, оглядывались настороженно, выискивая неожиданного свисту на или неведомую еще опасность.
Рысь с Вереском заслоняли меня, уже держа наготове обнаженные мечи. Воины, не увидя причины для тревоги и осознавая свою оплошность, смущенно пересмеивались, шутили, усаживались вновь. Качали головами и поддевали самих себя и товарищей, имея в виду неожиданный сон и переполох. А певец уже как ни в чем не бывало завел какую-то веселую шуточную песенку. Вот только гримасу злой досады никак не мог убрать с лица. И улыбка на его смазливой физии была, как приклеенная по ошибке. Только Рысь и Вереск, хоть и не поняли, что это я шухер устроила, не расслаблялись и настороженно вглядывались в темноту за спиной. А от ворот уже спешили воины со Стояном и Наной.
— Кто? — спросил Стоян, очутившись рядом.
— Певец и вон те двое рядом с ним. — Я повернулась к костру, но те двое уже исчезали, торопясь в спасительную темноту. Куда они здесь денутся — остолопы.
За ними кинулись прибывшие воины. Загорелись факелы. Стоян негромко отдавал распоряжения, но его слышали все, кому должно. В темноте уже завязалась драка с убегавшими. А певец неожиданно взметнулся, как распрямившаяся пружина, перелетел через костер (прямо Брумель какой-то) и помчался к воротам, на ходу сбрасывая свой павлиний наряд. Воины замешкались только на секунду, а он уже возле тына. Шустрый, однако, малый. На встречу ему ощетинились копья стражей — молодцы, не прозевали. Взяли бы его, как пить дать! Но тут из темноты вылетела стрела и, ударив чуть ниже левой лопатки, легко прошила певца насквозь. Ох и сильной же должна была быть пустившая ее рука.