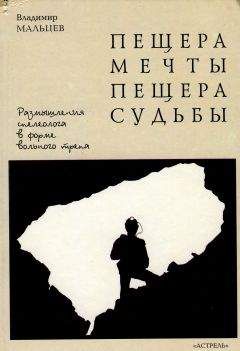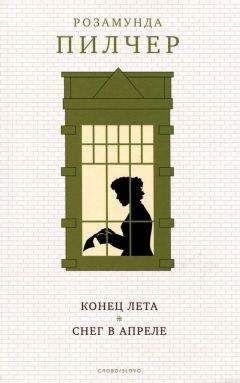«Курт Игнациус Гессе фон Вайденхорст. MCCCLXVIII[119] — …».
Курт отшатнулся, зажмурясь и отступив, и все равно перед мысленным взором успели остаться первые цифры — «MCD[120]…»; в голову ударило холодом и внезапно свело держащие арбалет руки. Наваждение, четко проговорил он про себя, силясь перекричать собственные бессвязные, оторопелые мысли. Это наваждение. Просто ночь, кладбище, одиночество и ожидание неведомого. Это бывает. Если сейчас открыть глаза, все исчезнет, все станет, как было.
Курт медленно приподнял веки, скосив взгляд на каменную плиту и рывком отвернулся, увидев прежнее «Курт Игнациус…». Он отступил назад, озираясь, стиснув приклад арбалета — больше рефлекторно, мимовольно, нежели впрямь надеясь на то, что оружие поможет сейчас или хотя бы окажется не бесполезным. Реальность вокруг была настоящей — не видение и не проснувшиеся внезапно детские страхи, не игры рассудка, что-то и впрямь происходило, что-то доселе незнаемое…
Спина уперлась в дерево позади, что-то захрустело под лопатками, и Курт отскочил в сторону. Ствол дерева вдруг содрогнулся, разбежался мелкими трещинами, как дно пересохшей реки, и внезапно рассыпался мелкими осколками с оглушительным стеклянным звоном. Над головой то ли застонало, то ли вскрикнуло что-то, не похожее ни на что и ни на кого — ни на птицу, ни на зверя — и вновь воцарилась прежняя тишина, рвущая слух мертвым, абсолютным безмолвием.
Курт попятился, невероятным усилием воли удержав голос в узде и не выругавшись вслух — громко, от души, чтобы разбить эту тишину и сбросить охватившее все его существо напряжение. Древесные стволы вокруг — все до единого — мерещились плоскими, точно витражи, выполненные неведомым искусником, и лишь каменные плиты казались чем-то единственно настоящим, ощутимым, почти живым.
Развернувшись, он двинулся прочь, вперед, туда, куда и шел изначально — сквозь кладбищенские тропинки и могилы, ощущая, как сковывает острым холодом спину, когда деревья, мимо которых он проходил, и впрямь оказывались сплющенными и словно вовсе ненастоящими. Тусклый свет все так же ровно пробивал темноту, позволяя видеть путь и всё, что было вокруг, и нельзя было увидеть лишь самой луны — небо над головой, беззвездное, невидимое, было лишь продолжением этой прореженной темноты, светящейся самой по себе…
Курт остановился, уловив движение впереди; в окружающем мертвом, неподвижном мире невнятный силуэт, шелохнувшийся где-то в глубине мрака, резанул взгляд, словно нож. Пальцы на прикладе сжались, приподняв арбалет на уровень груди, и было видно, как подрагивают руки в такт биению разогнавшегося сердца. Клочок тьмы впереди сгустился, приближаясь, вытягиваясь вверх и оформляясь в силуэт человека в длинном балахоне; по-прежнему не доносилось ни звука, все так же плыла вокруг тишина, неподвижная, как летнее марево, и лишь гонимая сердцем кровь шумела в ушах тугим оглушающим потоком…
Каспар? Его шутки? Ведь до сих пор неведомо, что он может, на что способен…
Успокоиться… Главное — успокоиться… Главное — успокоить сердце, чтобы не рвалось дыхание и не дрожали руки… Вдох… выдох…
Спокойствие…
Сейчас, здесь, на мертвом нездешнем кладбище, среди ненастоящих деревьев, беззвучной травы, безлунного неба, оставшись в одиночестве, повстречав, возможно, заклятейшего врага всей жизни — все равно; спокойствие…
Силуэт уже был в нескольких шагах, идя по-прежнему беззвучно, не останавливаясь даже на миг, всё приближаясь, и стало различимо, что на нем не балахон, а инквизиторский длиннополый фельдрок с поднятым капюшоном…
Что за…
Бруно? Нет, не то сложение… Буркхард? нет, тот выше… Блок? шире в плечах…
Стрелять? А если свои? Что, если здесь не только он, не только затерявшиеся где-то в этом мире сослуживцы, не только бойцы, пришедшие с ними?..
Стрелять или нет?..
Ведь неизвестно даже, что происходит, что это или где это, и кого еще сюда могло занести…
Стрелять или нет?..
Слишком уверенно он идет, слишком целеустремленно, слишком спокойно…
Стрелять или нет?..
— Стоять!
Собственный голос отдался в голове, как неистовый крик, пронизав тишину — и утонув в ней. Человек впереди не отозвался ни словом, не замедлил шага ни на мгновение, все так же ровно и твёрдо приближаясь, и стали уже различимы детали одежды, походка, оружие — два кинжала и меч, в точности, как у него самого…
— Стоять, — повторил Курт чуть тише.
В ответ была лишь все та же тишина, и все так же шел навстречу человек, чье лицо не давал разглядеть поднятый капюшон…
— Прости, если что, — проронил Курт тихо и, вскинув арбалет, не медля, чтобы не дать себе времени передумать, нажал на спуск.
Того, что случилось, он не успел ни увидеть, ни понять — человек напротив то ли отклонился в сторону, то ли попросту исчез, через миг возникши на шаг ближе, то ли Курт просто промазал, не сумев совладать с непривычным оружием и собственными руками, но — стрела прошла мимо, исчезнув где-то в темной пустоте и все той же безжизненной тишине…
Курт отступил на шаг назад, медленно сложив и убрав в чехол за плечом арбалет Фридриха. Что бы там ни было, а прежний опыт показывал безошибочно — в подобных случаях пытаться сделать второй выстрел просто не имеет смысла…
То, как зашипело полотно меча, вытянутого из ножен, было слышно, казалось, на весь этот мертвый мир, и незнакомец в инквизиторском одеянии, наконец, остановился — замер всего в нескольких шагах напротив, медленно приподняв голову. Открывшееся под капюшоном лицо показалось знакомым; знакомым невероятно, болезненно, где-то это лицо уже было видено, и не раз…
Лицо человека молодого, но изрядно потрепанного, не угрюмое, но и отнюдь не приветливое, какое-то неприятно безучастное; и знакомое, такое знакомое…
Человек в фельдроке беззвучно усмехнулся, бросив пренебрежительный взгляд на меч в руке Курта. «Какая, оказывается, у меня мерзкая ухмылка», — промелькнуло в мыслях, и мысли вдруг застыли, а пальцы, сжимающие меч, похолодели, перестав ощущать под собою ребристую поверхность рукояти.
Сентябрь 1397 года, Богемия.
Его лицо. Это было его собственное лицо, которое он видел в отражении, склоняясь над лоханью с водою утром, это был его фельдрок, его оружие. Сейчас, здесь, в четырех шагах напротив, стоял он сам…
Курт приподнял меч, и двойник шагнул вперед, обнажив оружие; травинки беззвучно пригибались под его подошвами, и так же, как его собственный клинок, меч двойника прорезал тишину шипящим скрипом выходящей из ножен стали, и блеск металла в свете невидимой луны был настоящим, материальным, живым…