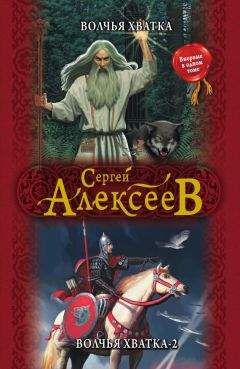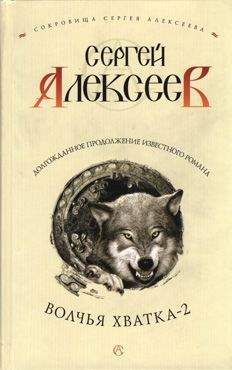— Вы что-то говорили о кладах! — вспомнил Савватеев.
— Вот это относится к области домыслов, — уверенно заявил профессор. — Деревенские сплетни… Но бандиты верят, ищут…
Он говорил что-то ещё, но в ухе Савватеева заскворчал торопливый, возбуждённый голос Финала:
— Двадцать минут назад пассажир попросился на прогулку, — доложил он. — Я не пустил, запер дверь снаружи и отнял ключ. Он вытащил раму окна и выпрыгнул со второго этажа! С чемоданом! Я сейчас только обнаружил!..
Савватеев махнул Прокофьеву и побежал на дорогу.
— В какую сторону ушёл? — спросил он на ходу Финала. — Примерное направление?
— Неизвестно!..
— Спроси у милиции!
— Спрашивал — никто не видел…
— Прочеши лес возле базы! — приказал Савватеев. — Он пьяный, далеко не уйдёт.
— Двадцать минут назад я видел его совершенно трезвым, — был ответ. — По всем признакам…
Выговаривать Финалу не имело смысла, похоже, мистер Твистер, изображая опьянение и озабоченность за североамериканский континент, ждал лишь подходящей минуты, чтобы уйти, и Савватеев этого не почувствовал. Он связался с Вараном, после чего поставил задачу представителю ФСБ, чтобы тот подключил на розыски милицию, бывшую в оцеплении, однако все это сразу же показалось обыкновенной авральной суетой.
А через четверть часа его и с собаками было не найти, поскольку вдруг разом и густо повалил снег— первый в этом году…
Оторвал его от тяжких размышлений «снежный человек». Он пришёл на рассвете, когда на востоке разгоралась по-зимнему тусклая заря и дымный столб от невидимого пожара почти развеялся. Ражный скинул ботинки, встал босым на снег, однако соперник разуваться не спешил и пуховую куртку, надетую поверх рубахи, не снял. Хмуро посмотрел на снежную целину поляны, на зарево, потёр красные уши:
— Слушай, Ражный… Тебе она нравится?
— Кто? — спросил он, хотя знал, о ком речь.
— Кукушка?
— Она больше не кукушка.
— Ах, да… Ну, хорошо, Дарья! Из вашего ловчего рода Матеры…
— Она моя избранная и названая невеста, — Ражный взлетел нетопырём.
— Достойный ответ, — похвалил нарушитель госграниц. — Но ты серьёзно хочешь взять её? Или чтобы избавиться от сиротства? Скажи честно?
Сыч источал странное, никогда не виданное зеленовато-бурое свечение с синими сполохами, расположенными по кругу так, словно был в некоем ореоле или плотном коконе. Что это может означать, Ражный не мог понять: то ли невероятную силу, замкнутую на самом себе, как у всякого индивидуалиста, то ли неспособность получать энергию извне. То есть был отрезан от всех иных природных сил — земли, солнца, воздуха и деревьев.
— Скажу, — пообещал Ражный, опустившись на, снег. — Выходи на ристалище.
— Не нравишься ты мне сегодня, — вдруг озабоченно проговорил Сыч. — Хмурый какой-то, нет живого блеска в глазах, как у жениха. С таким настроением лучше не выходить. Что случилось, Ражный?
— Не тяни время, Сыч…
— Может, в следующий раз сойдёмся? Когда у тебя азарт появится?
— Азарта хватит, иди на ристалище первым.
— Да погоди ты! — сказал Сыч, хотя движение сделал и куртку расстегнул. — Это мы всегда успеем… У меня есть другое предложение. Если она тебе нравится и ты серьёзно решил сыграть с ней Пир Радости, мы можем договориться и без схватки. Я тебе и так отдам Дарью…
— Отдавать можно то, чем владеешь.
— Но она моя наречённая!
— Была наречённая.
— По крайней мере, мы с ней помолвлены перед миром.
— Только плащ Дарьи у меня, — усмехнулся Ражный. — И я окрутился им лучше, чем молвой. Давай, выходи, не люблю болтовни…
— Постой, Ражный… Все так, верно. И я предлагаю тебе разойтись полюбовно. Мы же не мальчишки, чтоб драться из-за кукушки? Тем более нас наверняка застукают в поединке — сороки растрещат по всему лесу!.. Мне-то ничего не грозит, а тебе, послушнику, худо придётся. Извини, Ражный, я добро помню и хочу отплатить тебе тем же. Знаешь, подумал… как поётся в одной песне: «Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло».
Он был насквозь пропитан мирским духом, возможно, от долгого бродяжничества…
— Ты что же, готов просто так, из благородства, уйти с нашей дороги?
— Что значит просто так? — развёл длинными руками «снежный человек». — Нет, мне полагается маленький приз. Приз утешения. Я вытру слезы и уйду не только с дороги, но и с Вещеры. Мне уже и так все здесь опостылело.
— А Интерпол?
— Волков бояться — в лес не ходить.
— Ну, и чем же утешишься?
— Ты понимаешь, нам с тобой драться глупо. Ну, отвалтузим друг друга, а толку?
— Неужели ты боишься, Сыч?
— Не в том дело, — вздохнул тот. — Я тоже поначалу ходил по всей Вещере и задирался. Араксов колотил, сирых — всех подряд. Причину-то всегда можно найти. И бывало, меня колотили… А потом бросил это дело.
— Встретил суженую?
— Да нет… Суета какая-то — друг друга колошматить. Пока мы на ристалищах сходимся да свои победы празднуем, тем временем враги наши тихо творят своё чёрное дело. И радуются!
— Не пойму, что ты хочешь… — Ражный поправил плащ на пояснице и затянул верёвку. — Говори прямо!
— Есть предложение.
— Я уже слышал твоё предложение.
— Нет, не разойтись — в одну сторону уйти. Давай поговорим по душам?
— Мы не разговаривать сюда сошлись.
— То есть, без драки ты не можешь?
— Не могу.
Его руки гориллы, вольно болтающиеся вдоль тела, сжались в кулаки.
— Добро… Но тогда будет уже не предложение, а условие. Обязательное. — Сыч сделал паузу. — Сейчас я тебя положу… Ты встанешь с ристалища и уйдёшь со мной. Не пойдёшь же ты к… избранной и названой с разбитой рожей? И без её плаща?
— Ну, а если сам ляжешь?
Ражный допускал своё поражение, при этом довольно легко и даже весело.
— Тогда научишь меня волчьей хватке. Тем я и утешусь!
Ражный промолчал, а бродяга вдруг рассмеялся благодушно и подмигнул:
— Не торопись отказывать!.. Подумай, не велика и плата за возможность отлупить соперника, жениться на его невесте да ещё выйти сухим из воды. То есть из-под суда Ослаба!
Ражный молча пробил след на середину поляны:
— Что же, выходи, покажу и хватку. Утешу. Пожалуй, с минуту — уже и снег подтаял под ступнями, бродяга стоял набычившись и молча глядел на ристалище. Должно быть, заводил себя, распалял…
И с началом этой паузы, в той стороне, где дотлевал его дом, Ражному вдруг послышалось пение — знакомое, напоминающее ораторию, но звучащую бессловесно. В какой-то миг ему показалось, будто голос приближается и усиливается, словно к нему, одинокому, примешивается хор. В этом пении не было какого-то особого благозвучия, обычного для литургии; скорее наоборот, слышались жёсткость, драматичность, и все равно оставалось ощущение, будто это молитва.