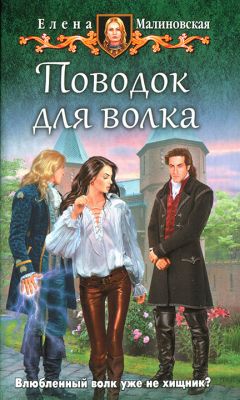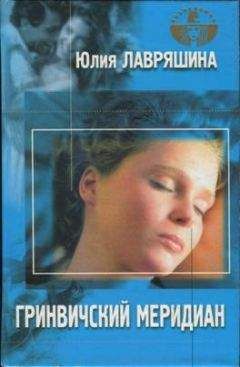— Проходи в дом, — князь широким жестом обвел дверной проем и посторонился, пропуская гостя.
А в это самое время, когда князь с как можно большим выражением радушия и гостеприимства принимал важного гостя, верстах в двух-трех от княжеского терема, среди деревьев и покрытых мхом скал мчался, не зная усталости, черный конь. На спине он нес свою хозяйку — Любаву, с самого утра сбежавшую в лес от проблем, забот, а главное — от того самого столь ожидаемого и желанного всеми гостя. Её отец запретил ей удаляться далеко от града, чтобы её можно было в любой момент найти, но и этому она радовалась: худшим наказанием на всем белом свете было бы для неё маяться в своих покоях, ожидая неизвестно чего — если, конечно, не брать в расчет приближающегося нежеланного брака.
Любава, наконец, натянула поводья, останавливая разгоряченного коня, спрыгнула на землю и, часто дыша после этого забега, подвела его к шумящему неподалеку ручью. Тоскливо вздохнула и отпила из привезенной с собой фляжки. Она никогда не питала иллюзий по поводу жизни обычных людей, ей никогда не хотелось стать обычной девушкой, а не княжеской дочерью — такая жизнь была бы для нее, мягко сказать, тяжеловата, и она сама прекрасно отдавала себе в этом отчет. Но в такие моменты, когда вдруг выставлял счет долг перед родителем, когда она в полной мере ощущала себя не то что пешкой — разменной монетой в чужой игре, ей становилось очень плохо, до того плохо, что хотелось закрыть глаза и проснуться в совершенно ином мире. "Князья рождают детей не для продолжения рода и не для их счастья, — грустно подумала она. — Они не думают о счастье своих детей, они думают о государстве. Врагу не пожелаешь быть дочерью князя".
Конь поднял морду, напившись, и всхрапнул. Любава улыбнулась и ласково погладила его по белому пятну на морде.
— Представляешь, Гром, меня замуж выдают, — тихо сказала она коню. Тот удивленно тряхнул головой. Любава кивнула. — Ага. Я тоже не знала. Мне, по-моему, вообще что-то говорить в последнее время для всех стало дурным тоном, будто со мной уже кончено. Но мы ведь ещё поборемся, а, Гром?
Конь вновь всхрапнул.
— Отца не переубедишь, — вздохнула Любава и отпила из фляги. — Значит, выходить придется, ничего не сделаешь, не поделаешь тут. Если бы я могла отказаться… Но отец думает только о княжестве, ни о чем больше. И я, скажет он, тоже должна думать только об этом, потому что я — княжеская дочь и вся моя личная жизнь подчинена интересам княжества. А сам-то ведь по любви женился…
Любава вздохнула и отпила ещё глоток, вспомнив о маме. Она умерла совсем недавно, уже брат был взрослым. Отец очень горевал, очень убивался по ней, долго не снимал траура и не выходил в народ — переживал потерю. Но Любава знала, что и мать сказала бы ей сейчас то же самое, что и отец: долг, долг и ещё раз долг. От этой мысли ей стало тоскливо.
— Ты один меня понимаешь, — сказала она коню. Конь благодарно захрапел, ластясь к её руке. — Ты мой единственный, самый лучший друг, Гром.
Любава ещё немного посидела на камне рядом с ручьем, потом подняла голову вверх. Солнце оставило позади полдень и неумолимо приближалось к вечеру. Любава вздохнула.
— Нам пора, Гром. Батюшка велел не позже двух вернуться. Будут мне смотрины устраивать, — невесело усмехнулась она. Оседлала коня, выпрямилась в седле. Когда она ездила одна, она никогда не сидела, как положено женщине — с обеими ногами по одну сторону седла; ничтоже сумняшися, она поддергивала платье до пояса и ездила, как мужчина, благо уж что-что, а шить она умела, и сшить пару штанов для езды тайком от родителя ей не составило труда. Оглядевшись вокруг, она подтолкнула коня к медленному шагу и вдруг с налившимся свинцом в голосе произнесла: — Смотрины… Мы ещё посмотрим, кто кому устроит смотрины.
С этой мыслью она пришпорила коня, и тот помчал её к отчему дому.
"Уже приехали", — первое, что подумала девушка, увидев у перевязи трех новых коней и двух незнакомцев возле них. Любава остановила коня и пригляделась.
— Ишь, разоделись, — фыркнула она. — Чисто петухи. Неужели это обязательно?
Любава поправила платье, села так, как подобает девушке — боком, и, выпрямившись, неспешной рысцой подъехала к конному двору так, чтобы «петухи» и весь остальной люд её не заметили. Затем быстро прошмыгнула на лестницу и заперлась в своих покоях.
Она едва-едва успела сменить дорожное платье на праздничное — ведь ей наверняка было положено по задумке отца спуститься к гостю, — как вдруг раздался стук в дверь.
— Княжна, — запыхавшаяся нянечка махнула рукой. — Князь требует тебя сей же час в обеденную палату.
— Скажи, что я сейчас спущусь, — кивнула она.
Любава закрыла дверь и на секунду прижалась лбом к прохладному дереву. Сердце ушло в пятки от неожиданно подкатившего страха, и ей требовалось время, чтобы взять себя в руки. Справившись, она подошла к зеркалу и надела свой княжеский убор. Кивнула отражению.
— Будь что будет, — прошептала она.
…Бьёрн нетерпеливо стучал пальцами по краю стола, выражая крайнее недовольство задержкой. Один из его спутников, позже появившийся в зале и стоящий по левую руку от него, наклонился и что-то шепнул Угрюмому. Тот меланхолично пожал плечами, и человек с досадой выпрямился.
Князь отвел взгляд от гостя и посмотрел на дверь. "Ох, Любава… Ох, дочь родная! Ну подставила ты меня!.." — только и успел подумать он, как двери наконец распахнулись и девушка вошла в зал.
Бьёрн удостоил её лишь мимолетного взгляда, как купец на торгу при покупке неинтересного, но нужного товара. Хороша? Хороша. Не обманули. Ну и ладно. Это отношение задело князя. Он поднялся навстречу девушке и провозгласил:
— А это дочь моя, Любава, гость дорогой.
Бьёрн тоже вынужден был подняться и поклониться девушке. Все это он проделал с большой неохотой и неудовольствием.
Любава мгновенно определила, что здесь происходит и чем она здесь является. Да и любая девушка бы поняла: Бьёрн, похоже, был совершенно равнодушен к элементарным приличиям и не собирался даже ради них делать вид, хотя бы намекающий на дружелюбие. Девушка, всегда поступавшая по принципу "как со мной, так и я", тут же сбросила маску радушия с лица, почтительно поклонилась отцу и подошла к столу. Она больше не смотрела на Бьёрна, держала голову прямо и одновременно смотрела вниз, в пол, так что казалось, будто глаза у нее закрыты вовсе.
— Прости, батюшка, что позамешкалась, — ровным голосом произнесла она. И вдруг — как острые кинжалы, вонзились в глаза Бьёрна её зеленые, колючие, вызывающие на бой глаза. Миг — и кинжалы скрылись в ножны век, длинные ресницы почти легли на щеки, и девушка сказала: — Гостю далекому негоже на глаза показываться как-нибудь, а краса времени требует.