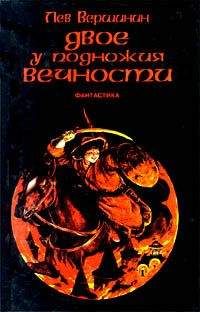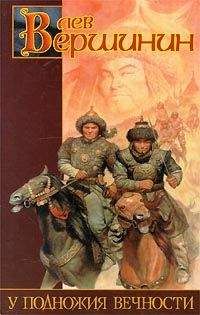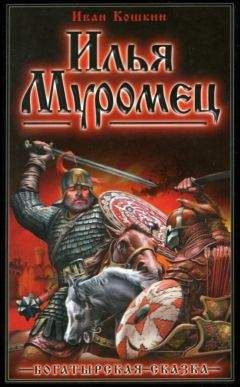Совсем иное сорвалось с уст — то, о чем и не мыслил николи:
— Вот, жил я — и умер ныне, Всеблагий; был, и нет меня. Зачем все?
— Зачем? — прилетело неведомо откуда. — Погляди, сыне…
Вспыхнуло пред очами белое, замелькало синее, закипело алое, все быстрее, быстрее, быстрее закружилось, перемешиваясь, набухло бутоном трехцветным, и раскрылся бутон, выкинув лепестков без числа, и вознесся цветок ввысь; со стебля же, один из многих, сорвался лист, поплыл вниз, покачиваясь…
Замер у лица.
А на листе — имена.
Те, что выше, ярким золотом написаны: Ратибор Волкич, Ратмир Ратиборыч, Симеон Ратмирыч, Онисим Симеоныч, Яким Онисимыч…
«Да ведь это ж пращуры мои! и батюшка с ними!..»
И вдруг после батюшки: Михайла Якимыч — тоже златыми буквицами, хоть и потусклее, чем прародительские…
«Я-то тут для чего?..»
А еще ниже — белым наведено: Степан Михалыч, Митрий Михалыч, Онтон Михалыч… и два имени, Митькино да Тошкино, вроде бы стираются, исчезают, лишь Степка на листе остается…
«Сыны мои, да что ж с вами будет, милые?..»
А ниже — тонкими черточками: Глеб Степаныч, Фома Глебыч, Михайла Фомич…
«Что ж, только Степке одному судьба род продлить?!»
И совсем уж понизу — столь мелкая вязь, что и не разобрать глазом…
— Вот затем и есть все, сыне, что нет на листе черных имен; были человеки и нет, но живут в потомках своих. Пока сияет златом память, до той поры и Русь жива…
Заколебался лист, дымкой подернулся, и с последним отголоском дивного перезвона, в колдовском неразрывном трехцветий донеслось затихающее:
— А доколе Руси быть, дотоле и мне…
Замер боярин, как молнией ударенный, дико глаза вытаращил. Да что ж это? мыслимо ли? Доколе Руси быть… а где она, Русь? где?.. внизу, под тучами, дымом стелется, пеплом едучим исходит; да ведают ли в покоях благолепных, что в мире деется?
— Прости, Всеблагий! не стану молчать! не могу!
Вскочил, задрал голову, закричал яростно ввысь:
— Где Русь, Спасителе? ответь! Была земля красная, была чудная, а вышла вся! Татарва гуляет по святой Руси, о том ведаешь ли? и нет боле нашей матушки! В небо ушла, гарью легла — ужели не чуешь?..
Оттолкнул ангела, кинувшегося смирять:
— Не смолкну! Как же ты беду дозволил, Милостивец? И то еще не беда, худшее горе настанет: ляхи придут, немцы придут крушить! да что ляхи? немцы что? — литвины из болот носы высунут! чудь белоглазая к русичам зад развернет, и всякая украина себя отдельной возомнит! и где же ты будешь, когда Антихрист, патриарший убор надев, кресты свергнет с куполов?.. с какой памятью останешься, Искупитель?!
И не услышал, угадал ответ — страшный:
— Ах, сыне, был бы я всемогущ…
Махнул рукой Михайла Якимыч.
— Да мне-то что? я-то помер уже…
А в отклик:
— …Живой ты, живой…
И ангелы, руки крутя, из покоя тащат, и трясет всего…
— Живой ты, боярин! Держись! Держись крепче! — хрипит Кудрявчик, волоча обвисающее, нежданно тяжелое тело Михайлы Якимыча; хрустко проваливается наст, тонут, увязают ноги; нечего уже прятаться, всполошились поганые, вдогон идут; эх, беда, раньше вскинулись, чем было рассчитано.
Мешком висит боярин на широких плечах гридня, тянутся по снегу босые бессильные ступни, а Бушок и помочь-то не в силах: сам едва поспешает по целине, едва ль не на карачках…
Не понять, на чем и споткнулись, в чем промашка была? Ведь все шло как по маслицу: тишком скользнули в шатер, старичина и пискнуть не успел — Кудрявчик, как уговорились, кулаком свалил, махнув в четверть силушки (чтоб оклематься смог после); сколько там в шатре задержались — ну два, ну три мгновения, и все споро, слаженно, словно единым телом стали на время; только треснул еле слышно под ногою Бушка маленький бубен знахаря, еле слышно хрустнул — только простонал жалобно бубен и прищелкнула, разрываясь, тугая кожа; а медные бирюльки на войлок и вовсе беззвучно просыпались…
Взбросил Кудрявчик на спину Михайлу Якимыча — и в прорезь, во тьму безлунную…
Но — десяток шагов только и сделать успели, как позади, в шатре, вдруг стукнуло, сперва тихо, а тут же и громче, и еще громче: «тук-така-така-така-тук!» — с медным призвякиванием, и тотчас едва не оглушило грохотом: «дан-дана-дана-дан-н-н!»… и уже сбегались к шатру поганые, вопя, уже вспыхнули факелы… но и тогда еще надежда была вырваться к городу, пусть бегом, на последнем духе, но прорваться по утоптанному снегу — и не вышло: рокотал гром натянутой кожи, забегал с боков, словно отрезая путь, и там, где возникал отзвук, вспыхивали огни, мельтешили темные тени в малахаях…
…и не стало иного выбора, кроме как по льду речному на тот берег спешить к лесу, к пуще дремучей: ни в жизнь степные туда не сунутся…
И только лишь повернули от града, стих бубенный гром. А факелы заметались, приближаясь… вот-вот настигнут; не сбились, вражины, уже и не собьются, коль сели на след; ну не беда еще, изрядно в отрыв ушли, даст Бог, успеем к опушке раньше нехристей…
Хрипит Кудрявчик, клонится вперед; и не конь, а в мыле весь, треух с рыжей головы обронил давно, слиплись от пота волосья; Бушок было помочь сунулся, ухватил ногу боярскую, да и упал тотчас носом в сугроб, не угнался за товарищем; а Михайла Якимыч не то что не ходок, а вовсе не в себе: дышит — не дышит, мычит — не мычит в забытьи…
— Дан-дан-дан-думмм! — стучит в висках.
— Уррр! — вопят догоняльщики.
…и тянут боярина ангелы, волокут, хоть и не упирается, уж не провожают ласково — в шею выталкивают дерзкого, а в покоях замутился свет, захмарился, колеблется трехцветное сияние, мутью подергивается… а лодочка качается, качается… и не лодочка вовсе, а люлька расписная… и матушка над дитятком склонилась, напевая «баиньки»… и пахнет от матушки молоком да медом… «люли-люли, Мишенька, люли-люли, маленький»… и все бы ладно, а вдруг — «Ай!» — о бороду укололась матушка, отпрянула…
— Держись, Якимыч, держись, милок… — приговаривает Бушок, стараясь не отстать; слов не выбирает, теперь уж не до приличий, живым бы уйти. — Держись, кому говорю, образина! крепись, брат, уже близенько…
Уже не бежит Кудрявчик. Бредет, вбивая ноги в липкую россыпь, скрежещет зубами, крошит желтые клыки, одно только и зная: не рухнуть бы; свалюсь, не встану — все прахом пойдет…
Вздулись на висках жилы; стук отдается в затылок, и голова налита свинцом; гудит под рыжей гривою набатный колокол, и сердце, в лад набату, бухает круче бубна татарского:
— Дан-дан-дан-даннн! Думмм!
Мечутся факелы уже и на этом берегу, тянутся к опушке как привязанные, но и опушка недалека уже; вот и первый куст прибрежный приподнялся, выкинул ветви из пуха, вот деревья, пока еще одинокие, редкие…