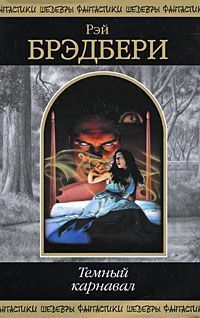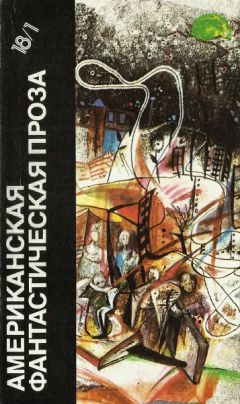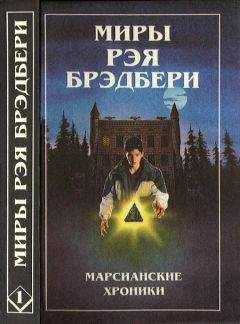– Вообще-то… да. Случается!
– Мальчишкам это знакомо, да и взрослым тоже. Я, например, в двенадцать лет зачитывался романами Берроуза про Марс.[1] В них Джон Картер вставал под звездами, воздев руки к Марсу, и просил о перелете. Тогда Марс забирал у него душу, выдергивал его, как больной зуб, из обычной жизни, перебрасывал через космос и опускал среди мертвых марсианских морей. Мальчишки, мужчины – они такие.
– А девчонки и женщины?
– Они просто грезят. И тогда призраки вырываются на свободу. Ожившие призраки. Ожившие надежды. Ожившие влечения.
– Это они зимними ночами приходят на лужайку?
– Можно и так сказать.
– Выходит, я призрак?
– Да, призрак-желание – такое сильное, что оно тебя убивает, но никак не убьет, сотрясает и разве что не сокрушает.
– А кто же ты?
– Наверно, призрак-ответ.
– Призрак-ответ. Ну и ну!
– Сама посуди. Не успела ты задать вопрос – у меня уже готов ответ.
– Вот и отвечай!
– Хорошо, слушай, девочка-женщина. Время ожидания почти прошло. Время отчаяния вот-вот закончится. Скоро, теперь уже совсем скоро, тебя позовет какой-то голос, и когда ты явишься – в двух лицах: призрак-желание и покинутое им тело – перед тобой будет стоять парень, которому придется впору тот голос.
– Умоляю, не говори о том, чему не бывать! – воскликнула она дрогнувшим голосом. У нее на глазах опять блеснули слезы. Она полузакрыла лицо руками, словно защищаясь.
– Я тебя дразнить не собираюсь. Мое дело – ответить, вот и все.
Городские куранты в очередной раз пробили в ночи.
– Поздно уже, – сказала она.
– Очень поздно. Тебе пора.
– Больше ничего не скажешь?
– А тебе больше ничего и не нужно.
Замерло последнее эхо огромных башенных часов.
– Как удивительно, – прошептала она. – Призрак-вопрос, призрак-ответ.
– Славные призраки, лучше не бывает, верно?
– Мне не встречались. Мы с тобой – близнецы.
– Куда ближе, чем ты думаешь.
Сделав шаг, она посмотрела вниз и радостно ахнула:
– Ты видишь? Видишь? Я могу двигаться!
– Вижу.
– Как ты там сказал: мальчишки совершают ночные вылазки, могут отмахать не одну милю.
– Да, так и есть.
– Если я сейчас вернусь к себе, то все равно не усну. Меня тоже тянет совершить вылазку.
– Тогда не медли, – сказал он тихо.
– А куда идти?
– Ну… – протянул он и внезапно нашел ответ. Теперь он твердо знал, куда ее направить, и вдруг разозлился на себя самого за такое всезнайство, а в придачу и на нее – за этот вопрос. Горло сжала ревность. Ему захотелось припустить по улице, добежать до дома, где в другие времена жил некий человек, разбить окно, поджечь крышу. Что же будет, что будет, если и вправду так поступить?
– В какую сторону? – спросила она, не дождавшись ответа.
Теперь, подумал он, придется сказать. Делать нечего.
Если не сказать, то ты, мстительный идиот, никогда не появишься на свет.
У него вырвался неистовый смех, что вобрал в себя целую ночь, и вечность, и безумные мысли.
– Стало быть, хочешь узнать дорогу? – переспросил он, поразмыслив.
– Непременно!
Он кивнул.
– До угла, направо четыре квартала, потом налево.
Она быстро повторила.
– Какой там адрес?
– Грин-Парк, дом одиннадцать.
– Вот спасибо! – Она поднялась на пару ступенек и вдруг пришла в замешательство, беспомощно обхватив ладонями шею. Губы задрожали. – Странно как-то получается. Не хочу уходить.
– Почему?
– Да потому… Вдруг я тебя больше не увижу?
– Увидишь. Через три года.
– Это точно?
– Я буду не таким, как сейчас. Но это буду я. И ты уже никогда меня ни с кем не перепутаешь.
– Ну, тогда мне легче. Между прочим, твое лицо мне знакомо. Откуда-то я тебя знаю, и очень хорошо.
Оглядываясь на него, она стала медленно подниматься по лестнице, а он все так же стоял у крыльца.
– Спасибо, – повторила она. – Ты спас мне жизнь.
– И себе – тоже.
Тени деревьев упали на ее лицо, пробежали по щекам, мелькнули в глазах.
– Бывает же такое! Ночами, когда не спится, девчонки придумывают имена для своих будущих детей. Ужасная глупость. Джо. Джон. Кристофер. Сэмюель. Стивен. Теперь вот пришло в голову – Уилл. – Она дотронулась до мягкого, чуть округлого живота, а потом протянула руку в темноту. – Тебя ведь зовут Уилл?
– Да.
У нее хлынули слезы.
Он зарыдал вместе с ней.
– Все хорошо, все прекрасно, – выговорила она, помолчав. – Теперь можно уходить. Больше не появлюсь на этой лужайке. Слава Богу, и спасибо тебе за все. Доброй ночи.
Ступая по траве, она ушла в темноту и двинулась по тротуару вдоль проезжей части. На дальнем углу обернулась, помахала ему и исчезла.
– Доброй ночи, – негромко отозвался он.
Что ж это такое, подумалось ему: то ли я еще не появился на свет, то ли ее уже давно нет в живых? Одно или другое?
Луна уплыла за тучу.
Это движение побудило его сделать шаг, приблизиться к крыльцу, подняться по ступеням, войти в дом и затворить дверь.
Деревья вздрогнули от налетевшего ветра.
Тут снова показалась луна, чтобы оглядеть лужайку, где тянулись по росистой траве две цепочки следов: одна в одну сторону, другая – в другую, и обе медленно, медленно уходили вместе с ночью.
Когда луна завершила свой путь по небу, внизу только и осталось, что нехоженая лужайка в обильной росе.
Часы на башне пробили шесть раз. На востоке зарделся огонь. Где-то прокричал петух.
За обедом Смит и Конуэй неведомо почему заговорили о невинности и о зле.
– В тебя когда-нибудь ударяла молния? – спросил Смит.
– Нет, – ответил Конуэй.
– А в кого-нибудь из твоих знакомых?
– Нет.
– И тем не менее такие люди существуют. Ежегодно это происходит со ста тысячами человек, и только тысяча из них погибают, денежки плавятся прямо у них в карманах. Каждый из нас полагает, что в него-то молния уж всяко не ударит. Мы-то, мол, подлинные христиане и исполнены множества всяческих добродетелей.
– Но какое отношение все это имеет к теме нашего разговора? – спросил Конуэй.
– Самое непосредственное. – Смит прикурил от зажигалки и уставился в ее пламя. – Ты отказываешься согласиться с тем, что в этом мире преобладает зло. А я, напомнив тебе о молнии, которая бьет в кого попало, пытаюсь тебя переубедить.
– Зла без добра не существует.
– С этим я спорить не стану. Но если люди не будут признавать обе эти вещи, мир провалится в преисподнюю. Прежде всего мы должны понять, что ни один добропорядочный человек не свободен от греха и любому грешнику ведомо хоть что-то доброе. Когда мы относим человека к той или иной категории, мы грешим против истины. Мы не должны видеть в нем ни праведника, ни грешника, ибо он несет в себе черты обоих. Швейцер[1] кажется нам едва ли не святым только лишь потому, что ему удалось уморить или посадить на цепь жившего в его душе бесенка. Гитлер представляется нам самим Люцифером, но разве он не боролся с жившим в его душе светлым началом? Мы же единственно развешиваем ярлыки.