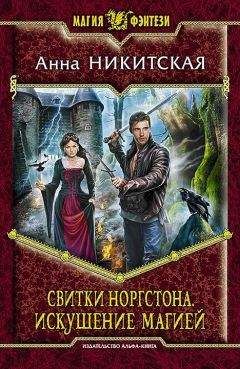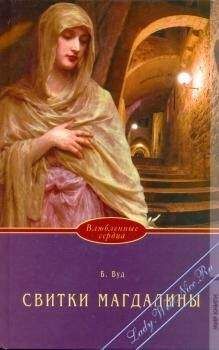— И опять ни одного выжившего! — Сьент едва сдержал крепкое ругательство, неподобающее его положению.
Какой-то смысл эта расправа обретала, только если принц решил не оставлять свидетелей, или… ему необходимо собирать жатву смертей. Любых. Значит, его сущность готовится ко второму этапу инициации, набирает силу.
Скорее бы Мариэт восстановила Ллуфа. Почему так затянулось исцеление?
* * *
Мариэт, опустив подбородок в сцепленные пальчики, любовалась беловолосым дарэйли. Он спал совершенно обнаженный, но хранительница жизни давно привыкла к виду раздетых мужчин, и могла сравнивать. Она была очень довольна своей работой. Тело Ллуфа снова выглядело совершенным, а глубокая, никак не зарастающая рана в боку и обезображенное лицо, которое каменный юноша уговорил ее не восстанавливать — так это специально для жрецов оставлено.
Ллуф резко открыл глаза — их Мариэт восстановила с трудом, и они выглядели еще мутноватыми, что вызвало гримасу недовольства на ее личике.
— Тебе не стыдно так на меня пялиться, дитя? — нахмурился юноша.
— Вот ни столечко! — Мариэт, расплетя пальцы, показала самый кончик розового ноготка.
— Ужас, какая распущенность!
— А где ты видел целомудренных дарэйли? — лукаво прищурились ее синие как небо глаза.
— В зеркале. Я очень стыдлив, к твоему сведению. — Ллуф, пошарив на полу, поднял упавшую простынь и обернул бедра. — Ну что, продолжим занятия? Кого будем превращать сегодня? Опять мышей? Ты же их боишься.
Мариэт вздохнула, убрала специально выпущенный кокетливый локон за ушко.
— Никого. Сьент требует тебя в любом виде, живым или не очень. Так лучше уж тебе быть целым, правда?
Ллуф кивнул, и девушка, встав с кресла, простерла засиявшие золотым светом ладони над его раной, сращивая края.
— И тоже думаю, что уже нельзя тянуть. Принца надо остановить. Знаешь, сколько уже у него жертв? — она отняла правую ладонь и, загибая тоненькие пальчики, начала перечислять, но махнула рукой. — Тут даже сороконожка не справится. Очень много смертей, а будет еще больше.
— И тебе, дарэйли жизни, от этого больно, — заметил Ллуф.
— Очень! Вот тут, — она ткнула себя в область сердца, обратив, заодно внимание бесчувственного дарэйли камня на безукоризненную форму груди под облегающей тканью черного платья. — Тут что-то надрывается, и моя сила уходит, как вода в песок. От естественной чужой смерти не так больно, только печально, а неестественных быть не должно!
— Но ведь войн и насилия в мире много, как же ты справляешься?
Закончив исцеление раны, от которой и без того оставалась лишь безобразная видимость, Мариэт села на край ложа.
— Мне так больно и страшно только из-за его жертв. Я не обратила внимания, так ли было, когда он убил жреца Пронтора, — ее высокий алебастровый лоб прочертила сосредоточенная складка. — Нет, не помню. Но я почувствовала, когда умерли Потерянные в хранилище. Вот с тех пор мне… мне страшно.
Она уронила голову на руки. Ллуф приподнялся, сгреб девушку, усадил себе на колени и, обняв и покачивая, как ребенка, погладил растрепанные непослушные кудри.
— Мариэт, милая, не бойся, Сьент не позволит, чтобы твоя сила ушла, он не даст тебе умереть. И я не дам.
— Сьент не замечает ничего, — всхлипнула девушка, пряча лицо на его груди. — Он… Я так люблю его, Ллуф! А мы для него — дети, только дети, которые были потеряны, а он нас нашел. Он не видит во мне женщину. Я даже не знаю, что такое поцелуй, представляешь?
Он горько усмехнулся:
— Не представляю, как возможна такая невежественность у рабыни Гончара.
— Мне едва исполнилось восемь лет, когда погиб мой создатель. Я стала Потерянной. Это было ужасно, Ллуф. Знаешь, сколько мне лет на самом деле?
— Семнадцать, или даже меньше.
— Только никому не говори, но я — самая старая дарэйли в мире. Мне почти пять тысяч лет.
— Тебя создали сразу после войны?
Девушка кивнула:
— Через двадцать лет после договора. Тогда в мире было очень много смерти, так много, что уцелевшие могли не выжить: болезни, голод, отравленная вода и лютый холод. Земля перестала родить, животные тоже почти не уцелели. Гончары создали нескольких дарэйли жизни, чтобы остановить смерть, оставленную нам высшими. Мои старшие сестры быстро иссякали, не успев набрать полную силу, не доживали и до второй инициации. Я не должна была столько прожить.
— Почему погиб твой создатель?
— Его убили одичавшие люди. Тогда был хаос, никакой власти, а Гончарам было не до того, чтобы бороться за власть. Они боролись за людей, за жизнь в Подлунном мире. Мы были преданы им душой и телом не как рабы, а как помощники. Это был союз.
— Почему же тебя усыпили?
— Если бы усыпили. Меня не нашли! Убийцы Гончара приняли меня за статую и поставили в святилище на горе.
— Подожди, я не понял. Но если у вас был союз, а не рабство, то почему ты оцепенела, как от связующего заклятия?
Мариэт пожала плечиком.
— Откуда мне знать? Я была совсем ребенком. Может быть, это фундаментальное условие для дарэйли в Подлунном мире.
— Вряд ли. Тогда принц не сбежал бы.
Она поморщилась.
— Не напоминай мне об этом чудовище! Так вот. Я стояла на вершине горы века, и племя людей мне молилось, приносило человеческие жертвы. Мне, дарэйли жизни! Здорово, да?
Ллуф содрогнулся, представив, каково это — тысячелетия, год за годом, день за днем — стоять неподвижной, жить, размышлять.
— Я бы рехнулся.
— Мне тоже казалось, что я безумна или давно мертва, а происходящее — наказание божье моей душе. Если бы у меня была другая сущность, я бы точно обезумела. Но во мне хотело жить все: и тело, и душа, и разум. Потом с племенем что-то случилось, и меня нашло другое племя, они тоже молились, но уже без жертв. Они почему-то сочли меня богиней красоты.
— Вот это совсем меня не удивляет. Ты божественно прекрасна.
— Да ну тебя! — отмахнулась польщенная Мариэт. — Когда их завоевали соседи, меня сбросили со скалы. Но я не разбилась, и меня закопали. Вот тогда я поняла, что предыдущие две тысячи лет были не самыми плохими в моей жизни.
— И ты сохранила разум даже в могиле! — он восхищенно коснулся ее лба.
— Сьент в этом часто сомневается, — лукаво улыбнулась она, но печальная складка на лбу не разгладилась. — Я нашла себе дело: училась помогать жизни даже в земле, тренировала сознание, придумывала задачи, думала — только не смейся! — о смысле моей странной жизни и вспоминала все услышанные когда-либо молитвы.
— Ты молилась сама себе? Я начинаю понимать Сьента, — поддел юноша.