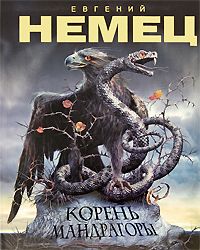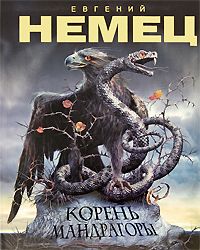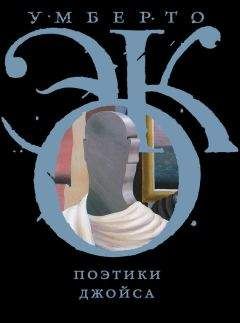Мара же не обращал на Кислого никакого внимания, он пристально смотрел мне в глаза, потом вдруг спросил:
— Гвоздь, ты когда-нибудь был в Казахстане?
— Да, — ответил я спокойно. — В тысяча девятьсот шестидесятом я закручивал гайки люка космического модуля, который потом унес в космос Белку, Стрелку и Кислого. Это было на Байконуре.
На этот раз Мара не улыбнулся, и я понял, что про Казахстан он спросил не просто так.
— Я говорю про Южный Казахстан, тот, который у подножия Каратау — западного хребта Тянь-Шаня, — очень серьезно произнес Мара. — Байконур намного севернее, он где-то в песках Каракумов.
— Мальчик мой! — читала мама драматическую сцену прощания. — Пиши, не забывай нас!
На ее глаза навернулись слезы. При всей склонности к театральности маме и в самом деле было грустно.
— Ладно, — проворчал отец. — Давай обойдемся без выдержек из Шекспира.
Я дал маме обнять себя, чмокнул ее в щеку, пожал протянутую отцом руку.
— Ну что, молодой человек, — сказал отец, пристально глядя мне в глаза и не выпуская мою ладонь. — Я могу за тебя не беспокоиться?
— Как можно, сударь?! Твой сын — кремень! С такой-то школой!
Я подмигнул отцу, широко улыбнулся. Отец улыбнулся в ответ, крепко обнял меня, похлопал по плечу.
— Ладно, — сказал он тихо, и мне показалось, что его голос сейчас дрогнет. — Тебе пора. Ступай.
Я кивнул, ощущая спокойствие и веселую беспечность, закинул за плечо рюкзак, повернулся к родителям спиной и пошел к воротам военкомата.
Что мне сразу понравилось в армии, так это честность. Там никто и не пытается скрыть, что правила писаны сильными для слабых. Все прозрачно: если срок твоей службы не достиг требуемой отметки (а она, как известно, измеряется в днях), у тебя не то что прав — у тебя даже имени нет. То есть мораль здесь не прячет свои гнойные язвы за благообразным платьем гуманизма и человечности. И что еще в армии хорошо, так это лаконизм общения. Лишних слов, как, впрочем, и мыслей, там не бывает.
— Гвоздь.
— Чего?
— Иди сюда.
— Зачем?
— Раз говорю, значит, надо.
— Раз тебе надо, сам и иди.
— А в табло, боец?
— А по башке табуретом, служивый?
А дальше все просто — либо ситуация себя исчерпала, либо будет мордобой. Вероятность обоих развязок примерно одинакова.
Мой мордобой ждать себя не заставил, явился практически сразу. Где-то месяц спустя после присяги.
В ту ночь я был в наряде, стоял «на тумбочке» и читал «Вокруг света». Вернее, пытался чтением отвлечься от дикого желания спать. Статья была интересная и частично с задачей справлялась. Речь в ней шла об острове Пасхи, том самом, на берегу которого стоит толпа каменных истуканов. Автор статьи убедительно доказывал, что раньше остров практически полностью покрывали пальмовые рощи. Аборигены рубили пальмы, чтобы перекатывать по их стволам многотонные статуи. Каменоломня находилась на противоположной стороне острова, истуканов приходилось тащить десятки километров, так что пальмовых стволов требовалось очень много. В конце концов местные дровосеки вырубили всю высокорослую растительность. Не стало пальм, не стало плодов, исчезли птицы… Следом пришли голод и болезни и довели население до каннибализма. На острове воцарился кровавый хаос, а бесстрастные каменные исполины стояли на берегу, обратив свои взоры к далеким океанским просторам, и бессовестно игнорировали акт пожирания одной людской особью другой. Таким вот образом религиозная глупость чуть не уничтожила целый народ.
За этим занятием меня и застал ефрейтор Дыров, которому отчего-то не спалось.
Ефрейтор Дыров был полным идиотом, и единственное его достоинство заключалось в том, что служил он не в нашей роте, так что я его не так уж и часто видел. Впрочем, быть полным идиотом в окружении идиотов обычных — это скорее достоинство, чем недостаток. К тому же Дыров оттянул полтора года, что резко повышало его самооценку. Он уже являлся к нам пару раз, дабы поучить молодежь «уму-розуму», поэтому я и запомнил его фамилию.
От ефрейтора Дырова пахло паточным самогоном, мутные глаза выражали пьяную злобу. Три верхние пуговицы гимнастерки были расстегнуты, бляха ремня болталась в районе паха, фуражка каким-то чудом держалась на затылке, выставляя на всеобщее обозрение засаленный чуб — предмет гордости каждого уважающего себя «годка». Дыров упер руки чайником, произнес многозначительно:
— Я не понял, дневальный! Почему честь не отдаем старшему по званию?
Я осмотрел гостя от головы до ног, вернул взгляд на страницу журнала, сказал:
— Ефрейтор Дыров, шел бы ты, уважаемый, спать.
От такой наглости ефрейтор опешил, поэтому даже не сразу нашелся, что сказать. Наконец взял себя в руки, физиономия его налилась кровью, он подался вперед и взревел:
— Я без тебя знаю, когда мне надо спать! Ну-ка давай сюда журнальчик, а сам быстренько сбегал и принес мне покурить!
«Разве цивилизация может быть sapiens, если ее представляют такие вот homo?..»
Я закрыл журнал и засунул его под телефон на тумбочке. Сказал спокойно:
— Не положено дневальному пост оставлять. Между прочим, тебе здесь тоже находиться не полагается.
— А-а-а, — протянул Дыров, растянув губы в злорадной улыбке и напрочь позабыв про журнал «Вокруг света». — Так у нас тут умные появились! Мне до дембеля сто пятьдесят дней, а меня тут «череп» уму-розуму учит! Быстро убежал за сигаретами, пока я добрый! А то сейчас будешь зубрить у меня устав от корки до корки!
Дыров выглядел как угодно, но только не добрым. Но, видать, его и в самом деле мучил никотиновый голод, иначе бы он уже махал руками. Тем не менее в последнюю фразу он вложил достаточно угрозы и весь напрягся — очевидно, готовясь пустить в ход кулаки, если я и на этот раз не проявлю уважение к его персоне.
Как бы там ни было, но время в армии структурировано правильно: первый год военнослужащих гоняют так, что к вечеру у них не остается никаких желаний, кроме как рухнуть на койку и закрыть глаза.
Я посмотрел на часы. «На тумбочке» мне предстояло торчать еще минут пятнадцать. Я чувствовал огромную усталость, и этот бессмысленный диалог выматывал меня еще больше. На драку сил уже не было. Я сказал:
— Дыров, я сейчас подниму трубку, позвоню дежурному по гарнизону и скажу, что ты напал на дневального. Так что иди себе спокойно, откуда пришел.
Ефрейтор хоть и был полными идиотом, но все же зародышем мозга обладал. Даже будучи пьяным, он понимал, что нападение на дневального — это перебор. На такую выходку глаза не закроют, а закроют его самого на «губу» недели на две. На «губу» Дырову, конечно же, не хотелось, потому он приблизил ко мне свою перекошенную от злости физиономию, так что помимо убойного перегара я отчетливо различил запах пота, смахивающий на вонь перекисших бочковых помидор, процедил мрачно: