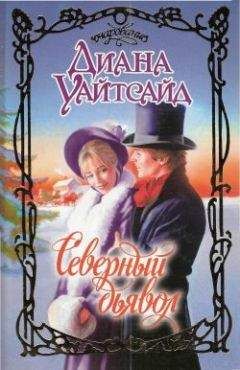– Не уходи.
– Ну что ты, я не уйду, – пообещал голос над ухом. Но чей – он уже не мог узнать: то ли мамы, то ли Лисены.
…Митька проснулся с сожалением. Даже глаза открывать не хотелось. Что-то хорошее снилось – и не вспомнить. Он плотнее завернулся в одеяло, глубоко размеренно задышал, надеясь снова задремать и поймать ускользнувшее видение. Но вместо этого все отчетливее слышались звуки раннего утра: перестук копыт – проехал патруль, скрип тележного колеса и звяканье колокольчика – молочник спешит распродать свежий удой, тюканье топора – колют дрова для кухни. Митька зябко передернул плечами, не мешало бы и в доме подтопить, комната к утру выстыла.
Вставать не хотелось. Вчера – точнее, уже сегодня – долго не тушил лампу, и сейчас голова была словно паклей набита. Очень уж уставал Митька из-за крохотных буковок, которые приходилось выводить на маленьких листах, почти слепляя слова и упирая одну строку в другую. По три страницы черновиков умещались на двух оборотах клочка бумаги размером чуть больше ладони. Большие листы княжич сжигал сразу же, маленькие прятал за подклад камзола. Митька был уверен, что комнату в его отсутствие обыскивают. Он не хотел, чтобы соглядатаи прочли откровения капитана Жака, отцовского приближенного, или мечты одного из ординарцев князя Кроха – умелого, но недалекого паренька; яростные высказывания отца; по-деревенски неторопливые рассуждения пожилого солдата; последние слова оружейного подмастерья, казненного в Кареле, или проклятия старосты из глухой деревушки, оказавшей мятежникам неожиданное сопротивление. Митька вспоминал их всех, пытаясь понять: ради чего, почему они пошли воевать, что для них значит смерть врага или гибель товарища. Конечно, так осмыслить войну – это все равно что пытаться сложить пустыню из песчинок. Но упрямо продолжал засиживаться далеко за полночь, то глядя невидящими глазами в стену, то выводя крохотные буквы.
Может быть, он просто цеплялся за эту работу, чтобы не сойти с ума от обреченности.
Хорошее настроение, рожденное сном, пропало. Княжич решительно вытолкал себя из-под одеяла. Громко помянул шакала, когда ступни уперлись в холодный пол. Быстро оделся, застегнул камзол на все пуговицы, но плащ накидывать не стал и вышел из комнаты. В гостевой части дома еще спали, но с первого этажа доносился невнятный шум, там возились слуги. Никого не встретив, Митька перешел в восточное крыло. Узкая дубовая дверь, окованная железными полосами, тяжело поехала по полу, открывая винтовую лестницу. Княжич не брал лампу, не стал зажигать и факел, пристроенный у двери. Он двинулся на ощупь, наматывая витки внутри узкой башни. Здесь было сыро, зябко и очень тихо, лишь собственное дыхание отражалось от стен.
Наверху за Митьку тут же принялся ветер, выдувая последние остатки тепла. Княжич нахохлился, сунул кисти рук в рукава камзола. Небо еще только начинало светлеть по краю. Солнце, и так поднимающееся по зимнему времени поздно, еще долго не покажется из-за гор.
Отсюда, с восточной башни, хорошо виден теснящийся на склоне каменный город, его шпили вырисовывались на пасмурном небе, точно заостренные прутья решетки. Справа темнел Корслунг-хэл, над ним виднелся край горной гряды. Горы были везде, и Митька порой чувствовал себя мышонком в ладони у великана. Он тогда опускал веки и представлял пологий берег Искеры, песчаную полосу, протянувшуюся между водой и травой, низкой, выгоревшей уже к середине лета. Ярко-голубое небо, чуть светлее, чем река…
Митька подышал на замерзшие пальцы, вслушиваясь в звуки утреннего города. Дожидаясь. И он пришел – торжественный, тяжелый гул. На площади перед воротами Корслунг-хэла, на толстой перекладине, поддерживаемой двумя каменными столбами, висел колокол. Митька не спрашивал, как он называется, не желая отказываться от придумавшегося имени: «Крег-колокол». Каждое утро бито ударялось о могучие стенки, рождая тяжелый звук: бо-о-ом… бо-о-ом… бо-о-ом… Наверное, ему вторили колокольчики с крыльца Хранителя, тоненько позванивая под ветром; Митька их слышать не мог, но ему все равно чудился этот переклик.
Звуки колокола растекались по улицам Рагнера, ударялись о стены домов. Они были так тяжелы, что, казалось, не поднимались, а оседали на булыжниках мостовой. Небо оставалось пустым. Митька всегда помнил, что небо над ним пусто. Никогда – ни в запале, ни в тоске – у него не вырвалось: «Орел-покровитель…» Но здесь, на башне, посреди чужого города, хотелось молиться, и Митька звал Ларра, хранителя родного королевства. Губы шептали слова заученных в детстве молитв, то договаривая до конца, то обрывая. Княжич говорил с Ларром так, как мог бы просить, стоя на самом деле перед покровителем: сбивчиво, торопясь напомнить о каждом, кто дорог.
Колокол затих. Митьке чудилось, что разбуженный город еще гудит еле слышно и каждая башня хранит отзвуки, колышутся штандарты и дребезжат флюгера. Он даже потрогал холодный камень – конечно, тот был недвижим и тих. И небо было все так же высоко и пусто, его не потревожили гул колокола и так и не сорвавшееся с Митькиных губ «Орел-покровитель…»
Вспомнил! Во сне-то он позвал хранителя! И тот помог, да, точно помог – Митька помнил тепло, пришедшее на смену холоду, и запах лета, и рыжий теплый шелк под руками. Вот странно, ему снилась Лисена.
К завтраку княжич вышел тщательно одетый и причесанный. Сдержанно поздоровался с другими обитателями дома.
Князь Селл вместо ответного приветствия сказал:
– Гонец приезжал. Хранитель ждет тебя к обеду.
Как обычно, известие обрадовало и вместе с тем заставило напрячься.
Разговоры с Курамом выматывали. Приходилось следить за речью – Хранитель не терпел неточных формулировок, Митька же привык тщательно обдумывать фразу лишь перед тем, как той лечь на бумагу. Причем неторопливо, а не в том бешеном ритме, в котором велся диалог. Хотя стороннему наблюдателю он показался бы плавной беседой.
Курам обычно преподносил факты, позволяя Митьке самому делать из них выводы – тут же, немедленно. Стоило княжичу оплошать, как в глазах старика проскальзывало сожаление: потратил, мол, время на бестолкового собеседника. Митька, который легко выслушивал насмешки Дымка, даже полунамек Курама воспринимал болезненно. Порой после разговоров с Хранителем голова казалась выжатый как лимон – остались только пожульканные лохмотья и раздавленные косточки. Но стоило Кураму долго не присылать приглашения, и княжич начинал беспокоиться. Митька очень ценил расположение этого человека, но была и другая причина: слова даррского предсказателя.