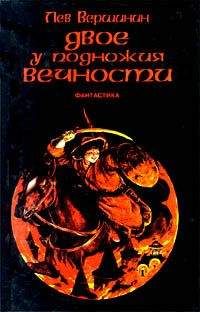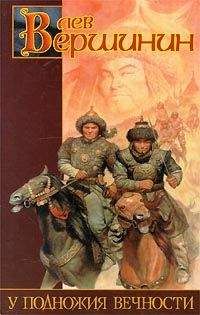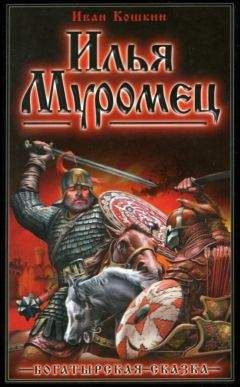Теперь Ульджай сидел, жестко скривив губы, напружинив упершиеся в колени руки, и было видно, что грудь его дышит по-тигриному свободно, легко и мощно. И хмурый сотник-мэнгу, кивнув, ответил за всех:
— Внимание и повиновение, ноян-у-ноян!
Когда же сотники вышли, Ульджай повернулся к отцу, и глаза его были сумрачны, но спокойны.
— Я выбросил твоего уруса, отец, мертвецу не нужно тепло. У тебя нет сил на забавы, отец…
И — не смог говорить о незначительном.
— Ты ведь слышал, отец? Пусть будет, как они хотят… а потом ты совершишь нужные обряды. Бурундай не станет запрещать; он справедлив, но милостив.
Твердо, но грустно было сказано, и Саин-бахши, встретившись с сыном взглядом, захлебнулся. Словно наяву увиделось: Ульджай, разметав руки, лежит навзничь на грязном снегу, шея туго захлестнута тетивой, а в выкаченных глазах замерзает стылое небо… но это небо было серым, урусским!..
Слишком страшно было видение, этого никак нельзя было допустить, никак; плошка выскользнула из пальцев и, опрокинувшись, упала на войлок. Густая белая струя поползла к жаровне.
— Синева не хочет этого! — Старику показалось, что от крика качнулся тяжелый полог, но всего лишь шепот сорвался с сухих губ, и Ульджаю пришлось наклониться ближе, чтобы услышать.
— Синева? Возможно… — ответил он так же тихо. — Но город стоит, а урусские копны иссякают, и коней нечем кормить…
Щадя отца, умолчал Ульджай о знамениях: о тихой смерти, что незаметно пришла и увела шелкового сэчена, смеясь над всей мудростью его свитков; и о шепотливом ропоте у ночных костров; и об урусах, выгнанных из темноты морозом: вернув хозяевам ненужную свободу, приползли полуживые бородачи, прося тепла и пищи, готовые валить стволы для прощального костра…
И разве все это не было ясно выраженной волей Небес?
— Мой путь окончен, отец, — отстраненно, будто не о себе говоря, усмехнулся Ульджай. — Но я рад, что ты будешь рядом, когда это случится…
«Не оставь меня в пищу воронам», — сказал, не сказав, сын, и никакой отец не смог бы смолчать, услышав такое.
— Кто знает цель своего пути?
Лишь жестокое усилие заставило губы шевельнуться, но слова, связываясь в пучки, мягкими метелками развеивали обрывки мутной одури, пробуждая в затылке тягучую боль. Боль была другом, она напоминала телу о жизни, едва не оборвавшейся после беспощадного удара. Самого удара не помнил Саин-бахши…
С каждым словом боль вырастала, суля стать огромнее степи — и вернуть память о чем-то важном, о том, что было до тьмы; о чем-то очень нужном Ульджаю…
— Человеку не дано выбрать себе дорогу. На то есть воля Тэнгри. Ты думаешь, я мечтал встретить старость в урусских снегах? — Старик качнул головой, и дымка в выцветших зрачках истончилась, приоткрыв темные точки зрачков. — Нет, сынок, не мечтал. Я покинул родной улус, ушел к порогу того, чье имя неназываемо, ради мудрости и могущества; я хотел стоять перед Синевой и говорить с нею… Но только Тэнгри знает, чем кончаются тропы судьбы…
Это были вовсе не те слова, которые были нужны; слова складывались тяжело и неуклюже, но само покорное звучание голоса помогло боли вытеснить одурь. Пелена забытья, шурша, уползала, и где-то вдали, а потом все ближе и ближе зарокотала смуглая кожа бубна, смешиваясь с тонким перезвоном медных подвесок. И Ульджай осекся, не успев возразить, потому что темные отцовские зрачки, утонувшие в прищуре воспаленных век, внезапно расширились, заполняясь искрами цвета каменных слез северных морей. Чуть промелькнула бледная желтизна и сгустилась, замерцала яростным рыжим огнем, словно угли, оживленные дыханием…
…А боль взвизгнула — и сгинула, гулко расхохотавшись напоследок; хохот ударил в затылок молотом, и багровый занавес беспамятства приподнялся, обнажая минувшее. И вспомнилось: распадается надвое войлочная стена юрты, и две стремительные тени влетают в порыве морозного ветра; тяжелая рука взлетает вверх и опускается на лоб, и нет времени уклониться от оглушающего удара; вспыхивает перед взором огненный столб… и сквозь огонь видно: срастается, возрождается изломанный бубен и некто огромный в распахнутой, пахнущей тлением шубе ударяет по ожившей, опять туго натянутой коже… и глаза его полыхают рыжим пламенем, забивающим огненный столб боли… и все шевелится вокруг, источая запахи могилы и цветущего можжевельника…
— Отец! — вскинулся Ульджай, но не смог встать с кошмы; мягкие ладони легли незримо на плечи, не позволяя пошевелиться. А Саин-бахши замер, закатив глаза, — и затрясся мелкой дрожью, будто расплываясь, сливаясь с полумраком. Белая пена вскипела на пляшущих губах, судорога побежала по лицу, плечам, вскинутым кистям рук, жила набухла на тонкой шее, и она стала похожей на узловатую ветвь обожженного молнией деревца.
Растопыренные пальцы проскребли воздух, пытаясь ухватить что-то невидимое, янтарное сияние залило белки глаз, стало ярче, полыхнуло непредставимым заревом…
…и Кокэчу, воспрянув, вышел из содрогающегося на испятнанном хурутом войлоке сухого старческого тела, а Саин-бахши, обмякнув, откинулся назад и окунулся в безмолвную пустоту, исчерченную быстрыми следами неуловимых снов…
И белый конь Борак note 62, призывно заржав, ударил копытом о войлок.
…Расправил светлые крылья скакун Борак, оттолкнулся от заснеженной тверди и взмыл ввысь, выстелив в полете вихревую гриву, перепутанную лентами лунного мерцания. И вмиг остался далеко-далеко, в выстуженной тьме угрюмого леса, табор, испятнанный язвами тусклых костров.
Расступился перед широкой грудью коня непрочный облачный ворс, вскочил огнеглазый на пушистый ковер Первого Слоя Небес и помчался вдоль туманных наплывов, похожих на застывшую степную поземку, разрывая искристое сияние, озаряющее путь.
Отпустив поводья, летел Кокэчу, несомый конем и ветром, и вставали вокруг удивительные видения, схожие с обманчивыми миражами летних степей: округлые холмы выстраивались в дымке тумана, плавно стекали в широкие, дышащие спокойной свежестью лощины, а вдали то и дело возникали темные сгустки туч и заострялись, рассекая сияние клыками зловещих скал, — но тотчас и оседали, рассекаясь бесконечными ворохами белоснежных мехов.
А порой вырывался из зыбкого пуха клубящийся комок, выпрыгивал бесшумно из-под острых копыт и уносился прочь, оборачиваясь на бегу то тяжело скачущим куланом, то изящно стелющейся в полете сайгой, а то и рассыпаясь вдруг смутно различимыми стайками диких коз.
И нес ветрогривый седока в неведомое, неостановимо стремясь вперед по заоблачным дорогам; изредка же слегка расползался клочковатый ковер, приоткрывая скрытое.