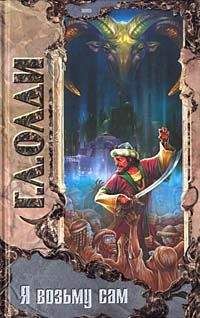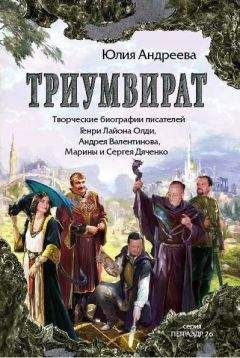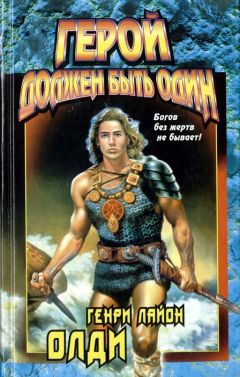— Шах, владыка. Фарр-ла-Кабир.
— Тогда я объявляю войну Харзе! Харзийцы — НЕ МОИ подданные! У меня будут враги! Настоящие! И друзья будут… — чуть слышно закончил поэт.
И отвернулся, чтобы маг не видел его слез.
Он и сам плохо верил в собственные слова.
Я разучился оттачивать бейты.
Господи, смилуйся или убей ты!
— чаши допиты и песни допеты.
Честно плачу.
Жил, как умел, а иначе не вышло.
Знаю, что мелко, гнусаво, чуть слышно,
знаю, что многие громче и выше!..
Не по плечу.
В горы лечу — рассыпаются горы;
гордо хочу — а выходит не гордо,
слово «люблю» — словно саблей по горлу.
Так не хочу.
Платим минутами, платим монетами,
в небе кровавыми платим планетами,
нет меня, слышите?! Нет меня, нет меня…
Втуне кричу.
В глотке клокочет бессильное олово.
Холодно. Молотом звуки расколоты,
тихо влачу покаянную голову в дар палачу.
Мчалась душа кобылицей степною,
плакала осенью, пела весною, где ты теперь?!
Так порою ночною гасят свечу.
Бродим по миру тенями бесплотными,
бродим по крови, которую пролили,
жизнь моя, жизнь — богохульная проповедь!
Ныне молчу.
1
Опаленная адским жаром свора шайтанов металась в чаду пекла, нанизывая грешников на копья-вертелы, рубя наотмашь, швыряя раненых в жадную пасть огня. Крики отчаяния, бесполезные мольбы, визг мучителей, грохот копыт, гул вихрящегося пламени…
Преисподняя, нижний ее круг, где даже на деревьях вместо ветвей растут змеи, а вместо плодов — отрезанные головы.
Чуть поодаль, на вершине сопки, стоял сам Иблис-Противоречащий, бывший ангел Азазиил, предпочтя огнь своей гордыни сладости рая и близости Творца. Стоял, равнодушно наблюдая за муками грешников, виновных много меньше, чем он сам — и на обветренном граните лица падшего ангела, на челе его высоком не отражалось ничего.
Вы считаете, рок безнадежно суров? Но ведь нет ничего ни в одном из миров, что избегло бы участи мяса парного: стать жарким в полыханьи вселенских костров!
Временами, в редкие минуты просветления, Абу-т-Тайибу всерьез казалось: он и есть Иблис во плоти. А там, внизу, в очередном хургском становище, вершат свою привычную работу его подмастерья-бесы: ржание, вопли, черные силуэты корчатся на фоне пожарища и кровавого диска закатного светила — чем не ад? Это длилось уже целую вечность, изо дня в день, почему-то всякий раз — на закате. Судьба? Подходит к закату очередной день — и подходит к закату чья-то жизнь.
Много жизней.
Изо дня в день.
На закате.
Противоречащий вершит суд неотвратимости.
За что он осудил этих людей? Какая разница?.. не важно. Если напрячься, он наверняка сумеет вспомнить — но напрягаться больно, от этого лопаются виски, как у слонов в брачную пору, и голова идет кругом. Лучше принять выжженный путь безумия за единственно верный. Он, шах белостенного Кабира, возжелал смерти этих людей; и люди умирают.
Воля шаха — закон; будь они все прокляты — и воля, и закон, и шахский кулах!
…Поначалу память еще нашептывала, жужжала назойливой мухой: кочевники-хурги вторглись в кабирские пределы, захватили какой-то там скот, кого-то зарезали… Конь набега вытоптал чужой луг. Ерунда. Было, есть и будет. В ответ войска прочешут границу на десяток фарсангов вглубь, вразумят налетчиков, угонят часть табунов — и воцарится временное спокойствие. Никто не рассказывал об этом новому шаху, но Абу-т-Тайиб и сам прекрасно знал извечный ход вещей.
Но на сей раз кувшин бытия дал трещину. Подтягивать войска, методично прочесывать степь, гнать табуны и отары назад, на земли шахства?! — слишком долго, а главное, абсолютно бессмысленно, с нынешней точки зрения поэта. Он не собирался плыть по течению. Он просто желал драться, немедленно, сейчас, завтра, вчера; и кровь предков ярилась в жилах, толкая на безрассудство.
Если бы кто-то вслух назвал Абу-т-Тайиба умалишенным, поэт бы с радостью согласился; но здесь пока не выросло языков, способных на столь вопиющую дерзость.
Он алкал войны. Настоящей войны, той правды меча, посредством которой обретают настоящих врагов — и настоящих друзей.
Не цели, но средства.
Шах еще даже не успел объявить о грядущем походе — а вся страна мигом пришла в движение. Войска стягивались к Кабиру едва ли не раньше, чем полководцы-спахбеды успевали получить шахский фирман, народ в едином порыве приветствовал бравых вояк кликами радости; а на всех перекрестках славились мудрость и решительность Кей-Бахрама, собравшегося примерно наказать обнаглевших хургов.
Давно пора!
От всей этой шумихи поэт только раздраженно морщился и временами требовал от спахбедов невозможного; морщась вдвое сильнее, когда те досконально выполняли любой приказ.
Основную мощь Кабира испокон веку составляли полки латной пехоты — но Абу-т-Тайиб боялся окончательно сойти с ума раньше, чем пешцы подтянутся к границе с Харзой. И сделал ставку на конницу. Пяти тысяч отборных головорезов должно было вполне хватить для утоления первой жажды. Отряд выступил ночью, под покровом хранительницы тайн — и лишь несколько человек в Кабире были посвящены в замысел шаха. Пехота, отряды пращников и «волчьи дети» под предводительством рвавшегося в бой Суришара, должны были двинуться вдогон утром следующего дня — чтобы соединиться с передовым отрядом у Арвана, малой приграничной крепостцы. А тем временем…
Это время не заставило себя ждать. Отпустив дракона своей ярости с привязи бесстрастия, шах не щадил ни себя, ни воинов, ни коней — и на четвертые сутки его всадники визжащими шайтанами обрушились на первое из становищ хургов.
Солнце клонилось к закату.
Как сейчас.
Только сейчас это было далеко не первое становище — какое по счету? какое?! не помню! — и везде повторялось одно и то же.
Огонь — и смерть на иззубренных клинках.
Сам шах не принимал личного участия в бойне. Он наблюдал. И изредка гнал в огонь гонца с коротким приказом. Перехватить бегущих. Взять человек десять живьем. Проверить: не укрылся ли кто во-он за тем холмом?
Все остальное воины знали сами; знали, нутром чуя волю господина, как свою собственную.
Они пришли сюда не грабить, и даже не карать. Они просто несли смерть. Всем. Даже женщин никто не насиловал — им вспарывали животы, едва покончив с мужчинами и подростками. Сразу. Не тратя драгоценного бальзама времени на удовлетворение зудящей похоти.