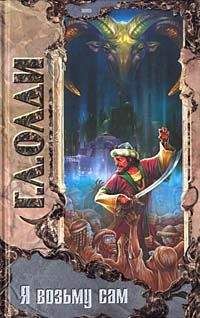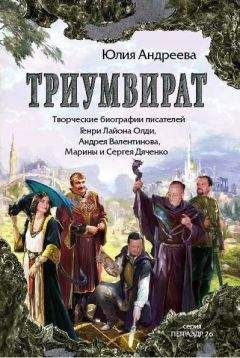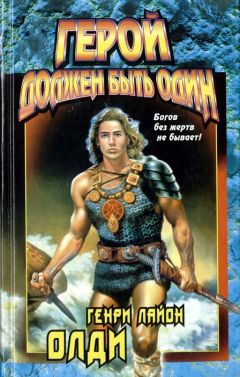Аромат бараньего жаркого мешался со смрадом горелой человечины — но это никому не портило аппетита. С другой стороны, и то, и другое — попавшее в огонь мясо, только и всего. Возможно, пустынному гулю-людоеду как раз второе показалось бы ароматом, а первое — смрадом.
За время этого безумного похода все уже успели привыкнуть к такому смешению запахов, перестав обращать внимание на подобные мелочи.
Шах ужинал у костра вместе со всеми. Громко чавкая, он поглощал дымящиеся куски, вытирая засаленные пальцы об одежду; и время от времени бросал короткие, почти неуловимые взгляды на своих воинов. Не взгляды — укусы песчаной эфы, за которой и глазом-то не уследишь!
Он видел одно и то же: искренняя радость, удовлетворение завершившимся боем, из которого живыми вышли все, да и раненых было немного. Обожание и преклонение перед ним, великим шахом, гениальным полководцем, ведущим их от победы к победе, грозой подлых хургов. В скачке неутомим, к врагам — беспощаден, ест с ножа, спит на земле, и воинская удача бежит за ним верной собачонкой! На такого шаха просто молиться надо!
Его воины, похоже, так и делали — только молча, про себя.
Преданные соратники? Или такие же несчастные марионетки, как он сам, ослепленные сиянием пригрезившегося им фарра — и готовые теперь бездумно идти в огонь и в воду за его обладателем?
Кто они на самом деле?
Кто он, Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби?
Ответа не было, в висках колотились тысячи мягких молоточков, и поэт зверел день ото дня, отыгрываясь на несчастных кочевниках.
Раздавалась во мраке судьбы похвальба: «Ради шутки на трон вознесла я раба, а впридачу к венцу наградила проказой!» — и смеются над шуткой скелеты в гробах…
* * *
Гнедая степь грохочущей рекой текла к югу, вглубь харзийских земель. И казалось: нет такой силы, которая способна остановить это конское половодье, прервать неукротимый бег тысяч копыт, сотрясавших дол на фарсанги вокруг.
Хурги спешили увести племенной табун подальше — но их было слишком мало, этих пастухов-воинов. А наперерез им и ведомому ими табуну уже неслись, разворачиваясь в лаву, без малого две тысячи всадников Абу-т-Тайиба, и расстояние между сверкающим кабирским серпом и гнедой рекой быстро сокращалось.
Гудела степь, радостно кричали в вышине стервятники, предвкушая скорую поживу — и пастухи слишком поздно поняли: с табуном им не уйти. Породистые аргамаки легки на ногу — но поди разверни живую реку вспять, заставь ее резко сменить русло, уходя прочь от вылетевших из-за сопок кабирцев!
Они не успевали. Если бы всадники Абу-т-Тайиба шли за ними вдогон — у кочевников еще имелся бы шанс уйти, пусть даже потеряв часть табуна. Однако налетчики мчались вперехват, и времени для маневра у хургов уже не оставалось.
С десяток наиболее сообразительных поспешно ринулись прочь, оставляя табун между собой и кабирцами, спасая свои жизни. Пусть уходят — сейчас не до них. Серп, сверкая металлом клинков, легко срезал редкую поросль безумцев-храбрецов и начал уверенно обтекать головную часть табуна.
Невозможное свершилось.
Река встала.
— Что ты там, мой Дэв могучий, о добыче говорил? — огласил степь буйный хиджазский напев. — Сей табун, подобный туче, мы отгоним к нам в Кабир! Пой, наш стан в стенах Арвана! Жди пришествия султана — подоткнув полу кафтана, нас Харзиец возлюбил! Хаййя!..
Отряд, гоня перед собой захваченную добычу, двигался быстро. Но без суеты и излишней спешки, которая, как известно, хороша лишь в двух случаях: при ловле блох и в постели чужой жены — да и то во втором случае необходимость спешки зачастую весьма сомнительна.
Если, конечно, муж не вернулся.
До Арвана было чуть больше суток пути, а Суришар с войсками ожидался дня через два, не раньше. Позади оставалась обезлюдевшая степь с язвами пепелищ; позади осталась дюжина налетов — и дюжина дюжин обезображенных хургов, отправленных гонцами к султану.
Впереди ждала война.
Абу-т-Тайиб жаждал ее, как жаждет глотка воды бредущий по пустыне путник, как влюбленный жаждет приникнуть устами к устам своей возлюбленной, как голодный барс жаждет крови и плоти молодого архара!
Поэт мерно покачивался в седле, пушистое разнотравье споро бежало навстречу — но глаза шаха видели сейчас иное. Временами ему казалось: он пестрым ястребом парит высоко в небе, и под ним проплывают города, сады, виноградники, желто-зеленые прямоугольники возделанных полей, и имя всему этому — Кабир.
Кабирское шахство.
А потом земля стремительно надвигалась, поэт сжимался в седле, предчувствуя неминуемый удар, который расплющит его в лепешку — но гибель все медлила. Абу-т-Тайиб киселем растекался по всей этой земле, он был всем: камнем стен, травой на обочине, дорожной пылью, полями и лесами, виноградниками, городами и деревнями — он был живущими здесь людьми, всеми сразу!
Перед внутренним взором на миг возникла ясная картина: он, вместе с фумэнскими рыбаками в каком-то селении на побережье Муала, где оказался случайно, проездом, рассматривает только что выловленного спрута.
Фумэн? Муала? Где это? Что это?!
И тут же он сам ощутил себя спрутом — огромная скользкая тварь с великим множеством конечностей, спрут по имени Кабир, и одно из его щупалец с жадными присосками устремилось сейчас дальше… на территорию Харзы! Многорукий гигант с шахским кулахом на голове таращил круглые глаза; и все тянул, тянул щупальце дальше — он, Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби, был одновременно и этим спрутом, и самим шахством, и тем щупальцем, которое упорно ползло к Харзе, пытаясь что-то ухватить — но это у него не получалось, добыча выскальзывала, несмотря на присоски…
Потом была темнота.
— …твое шахское, что с тобой?
Лицо. Озабоченное, встревоженное…
Дэв.
— Я не могу взять… не дается… — словно в бреду, бормочут белые губы.
— Эй, кошму сюда! И воды, воды, олухи!
Остатки одури уходят, глоток воды из бурдюка — и Абу-т-Тайиб легко вскакивает на ноги. Его чуть ведет в сторону, но тело быстро восстанавливает равновесие.
Смеркалось. Повсюду паслись лошади из угнанного ими табуна, лагерь был уже разбит, от костров тянуло дымом…
— Со мной все в порядке. Ужин. Потом выставить караулы — и спать. Завтра днем нам надо быть в крепости.
Этот череп — тюрьма для бродяги-ума.
Из углов насмехается пыльная тьма:
«Глянь в окно, неудачник, возьмись за решетку!
— не тебе суждена бытия кутерьма!..»
1
Ночью его снова мучали кошмары. Проснувшись утром, поэт так и не смог вспомнить — какие именно; но смутная тень предчувствия окутывала душу кружевной кисеей.