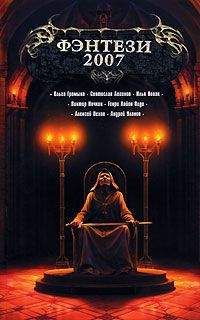– Врешь! – гавкнул в ответ псоглавец. – Он сильный. Справится…
– Славный ты парень, Доминго. И в гончих разбираешься, и в борзых, и в волкодавах. А в нашем брате – ни уха, ни рыла, уж извини за прямоту…
Словно подслушав их разговор, на тропинке, ведущей к Мраморному утесу, показался человек. Он шел неспеша, чуть прихрамывая, опираясь на трость из палисандра. Ветер трепал седые волосы и края шерстяной накидки, в которую зябко кутался идущий.
Первым его заметил лейб-скороход.
– Тише, господа! Неудобно…
Виц-барон поперхнулся очередным аргументом, закашлялся, пуча глаза и багровея лицом. Доминго же фыркнул и продолжил лакать эль длинным розовым языком, слегка разинув пасть. Клыки псоглавца вызывали уважение, а то и зависть.
Не взглянув в сторону спорщиков, человек миновал беседку и скрылся за поворотом. Казалось, он сгинул в гуще буйно разросшихся кустов дружинника, усыпанных темно-багровыми, похожими на капли крови, ягодами.
– Нет, не жилец, – с уверенностью повторил Борнеус, когда дар речи вернулся к нему. – Я вчера слышал: он вирши читал. Вслух. Сам себе. Ежели кто вирши вслух долдонит, и не за деньги, или там дамочке сердца, – все, пиши пропало. Режьте доски для гроба. Это я вам точно говорю.
– А я стихи люблю, – сообщил вдруг Доминго, отставив кружку. – Тоскливые. Слушаешь – и выть на луну охота…
– Но ты ж их вслух не читаешь?
– Не читаю, – грустно согласился псоглавец. – Голос у меня для стихов скверный. Зато выть умею мастерски. Душевно. Показать?
– Не надо! – поспешил упредить псоглавца скороход. – Лекари браниться станут. Скажут: что это вы, как на покойника…
– Ладно, не буду. А этот… Выкарабкается. Есть в нем что-то наше… Даром, что смурной.
Виц-барон, ничуть не убежденный словами псоглавца, с сомнением покачал головой и взялся за кувшин.
* * *
Идти было трудно. Левую икру прихватывала судорога, но он с упрямством механизма двигался по тропинке, налегая на крепкую трость. Если б еще не дрожь в руках… Тело самовольничало: каждая часть – со своими причудами, и неизвестно, что вздумает заартачиться в следующий момент.
Он справится. Это пройдет. Когда-нибудь пройдет.
Он ни о чем не жалеет. Что сделано – то оплачено.
Все честно.
Джеймс добрался до подножия утеса, где любил проводить свободное время. Досуга у него теперь имелось с избытком. Присев на замшелый камень, он достал томик стихов аль-Самеди – подарок Азиз-бея. С книгой он практически не расставался, выучив чеканные строки наизусть.
Особенно часто вспоминалась "Касыда об Источнике Жизни".
– Скалясь с облучка кареты, что ж вы, годы, так свирепы?
На таком, как я, одре бы не лететь, плестись шажком —
Сбит стрелою пестрый стрепет, смолк травы душистый лепет,
Смутен жизни робкий трепет, хрупок прах под каблуком…
– Хрупок прах под каблуком, – повторил Джеймс.
И некоторое время сидел молча.
Смеркалось. Ветер шелестел в соснах. Вдали, над Старыми Ботоцами, копился закат, похожий на кубок из оникса с нелепым пятном-кровоподтеком. Наконец Джеймс поднялся и отправился дальше, к Шегетскому озеру. Девятьсот тридцать семь шагов от дома до утеса. На сто восемьдесят шагов больше – от утеса до кромки воды. Два раза каждый день, утром и вечером. Ему нужно больше двигаться. Разминать ноги, заставлять работать непослушные мышцы – что бы там ни говорили лекари.
Мастер Фортунат, навещавший его в прошлом месяце, того же мнения.
Операция прошла тяжело, возникли серьезные осложнения. Венатор его предупреждал. Что ж, опасения мага в значительной степени оправдались. Но могло быть хуже. Еще хуже. Он, по крайней мере, остался жив, не сошел с ума, и способен ходить.
И по спине не бегают мурашки.
– От тоски неясной млею, как овца худая, блею,
Сам себя, дурак, жалею, сам себя гоню бегом,
Сам болезнями болею, сам в гробу тихонько тлею,
Белыми костьми белею… Сам – и другом, и врагом…
Первый десяток шагов, как обычно, дался с трудом. Дальше дело пошло легче. Джеймс поймал ритм ходьбы и перестал смотреть под ноги, опасаясь споткнуться и упасть.
Когда нет необходимости пялиться в землю, кажется, что день прожит не зря.
Нерукотворный обелиск утеса нависал над вершинами сосен и буков. Блики закатного солнца играли на сколах. Ближе к подножью утес покрывали заросли лещины и бересклета, выше растительность редела, сходя на нет. Лишь бесформенные наросты лишайников, желтых и серых, цеплялись за голый камень.
У вершины сдавались и они.
Сюда стоило бы пригласить Кемаля, племянника Азиз-бея, для работы над пейзажем. Дикая мощь утеса. Кругом волнуется море темной зелени, разорванное вспышками пурпура и янтаря. Облака наливаются алыми прожилками. А внизу, за восточным склоном, шумит горная речка.
Беснуясь в теснине, поток грохотал, пенился бурунами, белыми от ярости – но сюда долетал лишь отдаленный гул.
Надо идти.
Это полезно.
Это необходимо – идти.
– Сам – и птицей, и стрелою, и пожаром, и золою,
Долей доброю и злою, желтой осенью жнивья,
Сам – и нитью, и иглою, легкой стружкой под пилою,
Круглым блюдом с пастилою и изюмом по краям.
Что же, все мои невзгоды – тоже я? Капризы моды
Или шалости природы…
– Скоро ночь, – сказали за спиной. – Время ложиться спать.
Джеймс обернулся.
Она почти не изменилась за это время. Гибкая, словно хлыст, занесенный для удара. Кожа на высоких скулах натянулась до пергаментного блеска. Щеки запали, как если бы Вуча питалась от случая к случаю. На подбородке – косой шрам. И глаза – тусклые, бесстрастные, вылитые из бронзы.
Лицо дамы со шпагой было женским, не похожим на рябой лик Лысого Гения. Но эти бронзовые глаза ясно говорили, какая цель привела Вучу Эстевен в Ботоцкие горы. Глаза – и неподвижность. Так стоять, не двигая ни единым мускулом, может лишь очень быстрый и очень опасный человек, который для себя уже все решил заранее.