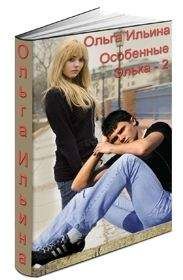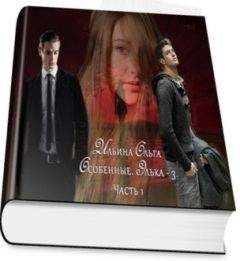А еще Олеф решила окончательно переехать к Генри. И в тот день, когда мы помогали ей собирать оставшиеся важные вещи, случилось то, что отодвинуло для меня все уроки и тренировки, и даже мои собственные чувства на второй план.
— Никогда не думала, что у меня может быть столько вещей, — вздохнула Олеф, когда мы упаковали ее гардероб, книги, кучу милых сердцу вещей.
— А меня это совсем не удивляет, — хмыкнула я. — Тебе же шестьсот лет.
— Намекать девушке на возраст неприлично, — улыбнулась она и щелкнула меня по носу. — Но признаюсь, мне тяжело уезжать. Я здесь столько замечательных лет прожила.
— Когда-нибудь приходится отпускать прошлое и идти дальше, — поддержала Катя и вытащила из шкафа большую шкатулку, очень старую, судя по царапинам на деревянной крышке. — А это что?
Олеф повернулась к девушке и слегка побледнела. Бережно взяла шкатулку и погладила, как самую большую драгоценность.
— Воспоминания.
Мы затаили дыхание.
— Не знаю, смогу ли я расстаться и с этим.
— А что там?
Она показала. Но по дрожащим пальцам, мы поняли, что для нее то, что хранится в шкатулке дороже любого, даже самого изысканного украшения. Письма. Много. Тигровый глаз в виде кулона, нанизанный на обыкновенную веревку, засушенный цветок. Каждую вещь она брала настолько бережно, проводила кончиками пальцев, и витала где-то в своих воспоминаниях. Как мне хотелось сейчас заглянуть в одно из них, но я боялась нарушить момент.
Она сама начала говорить. Тихо, едва слышно, но так проникновенно.
— Для меня он был всем. С первого взгляда, полувздоха я знала, что он моя судьба. Мы были совершенно из разных миров. Отец был в ужасе, когда узнал. Раб. В глазах общества он был беглым рабом, глупым, недалеким, почти животное. Но они ошибались. В нем было столько силы, истинного благородства, преданности самому себе. Его унижали, оскорбляли, а он не обозлился. Не уподобился этим благородным, но только с виду, людишкам из высшего общества. Которые на людях были благочестивы и преданы господу, а за стенами своих домов творили непотребства. Лицемеры. Как же я ненавидела их. Они считали его неграмотным дикарем, а я учила писать. В конце концов, его почерк стал идеальным. А этот цветок он подарил мне, когда признался в любви. Сбиваясь на шепот от волнения. Боги, я помню это так, как будто это было вчера.
Я не думала, что слова Олеф настолько заденут меня, но несколько слезинок скатились по щеке, а я и не заметила. Зато Олеф увидела. Взяла свою сумочку и протянула мне несколько бумажных платков.
— Спасибо. Прости, я не хотела…
— Это все прошлое. Я просто никак не решалась… не решаюсь…
Она замолчала. Поднялась, посмотрела на коробки, на фотографию Генри, которая одиноко осталась стоять на туалетном столике. Улыбнулась, что-то решила для себя и обернулась к притихшей Кате.
— Ты не помнишь, куда мы упаковали свечи?
— Кажется в верхней коробке.
— Зачем тебе…
— О, нашла, — проговорила Олеф, отыскала в сумке зажигалку и зажгла свечу. — Пора покончить с прошлым.
— Не надо, — воскликнули мы с Катей.
Но ее уже было не остановить. Она сжигала письмо за письмом, выбрасывая горящий пепел в мусорную корзину. Туда же был брошен рассыпавшийся в руках цветок и кулон. Даже его она не пощадила. Когда шкатулка осталась пустой, она положила ее сверху. И снова глубоко вздохнула.
— Вот и все. Пойду, позову мальчиков, чтобы унесли коробки в машину.
— Что-то мне подсказывает, что она еще не раз пожалеет об этом, — печально проговорила Катя. Я была с ней согласна, поэтому попыталась спасти хоть часть ее воспоминаний. Достала из пепла тигровый глаз, и подхватила шкатулку. — А еще мне кажется, что мы сможем ей помочь. Пойдем.
— Ты о чем? — не поняла я.
— Сейчас расскажу, только прежде…ты ведь не вернула папе те картины из дома?
— Нет, а что?
— Пойдем.
Мы поспешили ко мне, пока Олеф не вернулась. Катя сразу же кинулась к картинам, спешно разворачивая каждую, пока не нашла то, что искала.
— Смотри.
Она прицепила картину к мольберту. Ту, где был нарисован темнокожий мужчина. А потом Катерина достала из-за пазухи стопку листов из шкатулки Олеф.
— Ну, ты крута, — восхищенно выдала я.
— Ничего подобного. Просто поняла, что эта дуреха собралась сделать. Но меня интересует не это. Гляди.
Она перевернула один из листков, и я уставилась на полностью идентичный рисунок моего темнокожего незнакомца. Я ахнула.
— Не может быть.
— Теперь понимаю, почему она говорила, что он дикарь, — тоже под впечатлением проговорила Катя. — Сейчас он кажется еще реальнее.
— Он темнокожий.
— Представляешь, какой скандал? А теперь расскажи подруга, как так получилось, что ты нарисовала его портрет за год до встречи с Олеф?
Я вздохнула и рассказала обо всем. Сегодняшний случай окончательно убедил, что я действительно обладаю этим даром предвидения.
— Думаешь, он…существует? — почему-то прошептала Катя.
— Думаю, да. И мы должны его найти.
— Согласна. Вот только как?
— Я попытаюсь вытянуть все, что можно из картины.
— Я помогу. Так, решено. Сегодня после лекции Крыса мы с тобой засядем за картину.
Мы так и сделали. Исследовали через лупу каждый кусок. И, наконец, нашли зацепки.
— Смотри. Эмблема на форме портье, — указала Катя.
— Да, я тоже видела.
— Надо ее сфоткать.
— Я лучше зарисую. Мне кажется, это отель.
— Да, но какой? Их миллионы.
— Надеюсь, он все-таки в Чехии расположен.
— И желательно в Праге, — согласилась подруга.
— Что вы такое делаете? — спросил Крыс, заинтригованный нашим ползаньем по полу перед картиной. Никогда еще он не видел нас обеих такими увлеченными.
— Саботаж готовим, — откликнулась Катя.
Я повернулась к ней и поняла. А ведь она права. Мы действительно пытаемся сорвать свадьбу Олеф. И страшно стало.
— Ты уверена, что нам нужно вмешиваться во все это?
Катя не нашлась с ответом, как и я.
— Знаешь, я никогда не любила, как она. И даже представить не могу, что она чувствует все эти годы. Эль, а ты?
А я… я знаю, что такое любовь. Только мой герой вовсе не герой оказался. А я все равно его жду, все равно не могу забыть, и если бы был хоть один маленький шанс вернуть все назад, исправить… я бы рискнула.
— Ты не слушаешь, — в очередной раз пытался достучаться до меня Диреев. Да, я и в самом деле не слушала его. Вчера мы с Катей, наконец, выяснили, что это за странная эмблема была нашита на форме портье. Такие носят только работники фешенебельного пражского отела Аматти. Пять звезд в Европе отличаются от пяти звезд какой-нибудь Турции или Египта, потому что в Европе пять звезд — это пять звезд, со всеми вытекающими. Цена за номер от тысячи евро в сутки, обслуживание на высшем уровне, номера как в замке и карточная система входа. Туда очень сложно попасть тем, кто не соответствует уровню. И практически невозможно заказать номер. Мы пытались, но там все забронировано на недели вперед. А со временем у нас как раз была напряженка.