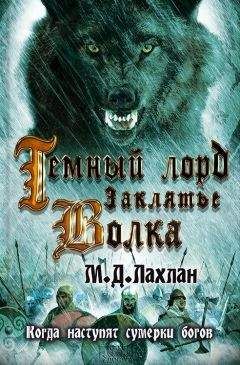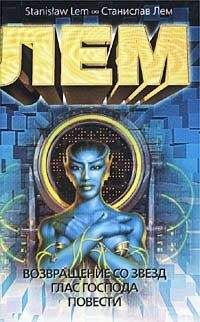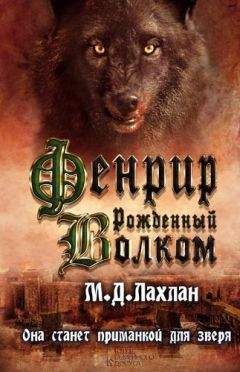Однако, мечтая убивать, он каждый раз застывал, словно парализованный, перед лицом врага. Отец был к нему добр, он с готовностью верил, что его сын в конце концов затмит своих предков.
— Это оковы битвы, — говорил он. — Такое бывает только у самых лучших воинов.
Это великий дар, данный Одином. Только он может разрешить тебе сражаться.
Он бережет тебя для чего-то особенного. И не позволяет тебе попусту растрачивать силы в драке с тем, кто в два раза больше тебя. Ты вырастешь и станешь могучим воином, уж поверь.
Змееглаз ерзал по подушке, сжимая в руке камешек, который носил на шее на кожаном ремешке, прося у него удачи: кровавых битв, сильных врагов и славных побед. Не драгоценный, а самый простой треугольный камешек с нацарапанной на нем волчьей головой. Этот амулет принадлежал его деду и хранил в себе благословение богов. Мать отдала его Змееглазу, когда мальчику было пять лет. С тех пор он его не снимал.
Его пронзило чувство стыда, когда он вспомнил о своем деде Тьёреке, сыне Тетмара. Иногда его называли Толстяком, и он убил столько народу, что вороны, как говорили, повсюду летели за ним и падали с небес на готовое угощение. Правда, его дед в тринадцать лет уже был на голову выше других мужчин. Змееглаз же мал для своего возраста, хрупкого телосложения, с кожей как у девчонки.
Он будет убивать, обязательно будет убивать. Хотя и не скоро. Армяне разбежались или погибли — во всяком случае те, которые сражались на стороне мятежника, — норманны и турки тоже, верблюды ускакали, а греки лежали, истекая кровью. В Константинополе, решил он, в Миклагарде, городе мира, он найдет для себя исцеление. Там он избавится от оков битвы.
Как он ни старался, но воспоминания и фантазии не давали ему заснуть. Он снова и снова переживал безумный восторг победы, вспоминал, как начался дождь, дождь, подобный, по словам греков, тому, что видел Ной. Змееглаз слышал легенду о потопе, он сиживал у многих лагерных костров, где пересказывались легенды со всего мира. Глядя на отсыревшие бока палатки, он вдруг понял, для чего ниспослан этот дождь — смыть его позор.
Тепло жаровни в конце концов разморило мальчика. Образы и переживания лениво проплывали у него в голове, но делались все тусклее, как будто его мозг отяжелел и сделался неповоротливым от крови, словно насосавшаяся пиявка. Змееглазу привиделась черная дождливая ночь, поле, усеянное мертвыми телами, и волк, крадущийся к тому месту, где спит он.
А в следующий миг серый хищник проник в палатку. Это был не волк — всего лишь образ волка, образ, который приходит на ум, когда глядишь на него. Это был человек. Промокший часовой беззвучно рухнул у входа со сломанной шеей. Убийца выхватил меч, сверкнувший в ночи, словно холодный серп луны, упавшей на землю, — зловещий серебристый коготь, лезвие, искривленное и заточенное смертью.
Змееглаз шевельнулся, открыл глаза и понял, что это уже не сон. Рядом с ним стоял человек, который был не совсем человек, волк, который был не совсем волк. В руке он сжимал страшный изогнутый меч — древнее оружие для истребления людей.
В голове прояснилось, и в слабом свете жаровни он различил стоявшего над императором человека в одной только волчьей шкуре. Голова серого убийцы покоилась поверх головы убийцы человеческого. Сначала мальчик решил, что это легионер. Он видел, что многие греки точно так же носили шкуры большого зверя.
Но Змееглаз ошибся. Это был дикарь, измазанный грязью, его кожа была выкрашена чем-то серым, под волка, и с нее стекала вода.
Змееглаз закричал и бросился на него. Пришелец схватил его одной рукой. С ужасающей силой его пальцы сомкнулись на горле мальчика. Задыхаясь и слабея, неспособный разомкнуть смертельную хватку, он силился позвать на помощь. Никто не прибежал — его хрип заглушали шум дождя, пение у костров и стоны умирающих.
Император пробудился и заметил убийцу. Василевс хмыкнул с легким раздражением. В его глазах была скорее досада человека, которому не повезло, потому что у него из-под носа увели с прилавка последний мех с вином, но не страх смерти.
Он поглядел на изогнутый меч.
— Я римский император, в Порфире[4] рожденный, поэтому если ты сын одного из завоеванных мною народов, друг, и ждешь, что я стану умолять о пощаде, ты будешь разочарован. Ты гость нежеланный, но ожидаемый. Делай, что должен.
Змееглаз силился остаться в сознании. Стенки палатки расплывались, угли жаровни превратились в дорожки света у него перед глазами. Человек-волк разжал руку, уронив мальчика на пол. Затем он положил свой меч к ногам императора и грубо, гортанно проговорил два слова по-гречески.
— Убей меня, — попросил он.
— Я высасываю твои глаза. Я пью твою кровь. Я ем твою печень. Я натягиваю твою кожу.
— Что ты такое говоришь, Луис?
Молодая женщина приподнялась на локте, лежа на постели, и посмотрела в предутреннем свете на мужчину рядом. Она откусывала по маленькому кусочку от хлебца, испеченного в виде человеческой фигурки, а ее любовник играл прядью ее длинных светлых волос и смотрел на нее, улыбаясь.
— Это заклинание, я слышал его на рынке. Чтобы заставить тебя любить меня. Для этого и пекут хлебных человечков. Это я… — он постучал по хлебцу у нее в руке, — а у меня в животе — ты.
— Идолопоклонничество!
— Было бы, если бы мы в это верили. Но раз мы не верим, то это просто хлеб.
— Тебе не нужны никакие заклинания. Я и так уже тебя люблю.
— Но ты бы хотела не любить, правда, госпожа Беатрис?
Он привлек ее к себе и поцеловал. Затем они разомкнули объятия, и она отвела взгляд.
— Хотела бы.
— Как ты серьезна.
Он взял ее руку и поднес к губам.
— Безмерная любовь — тяжкий грех, так говорит церковь, — сказала она.
— Женщина слаба, потому ею управляют необузданные страсти. Но и я люблю тебя безгранично и не могу оправдать это своим полом.
— Я надеялась, что, когда мы поженимся, страсть утихнет и сменится подобающими чувствами, нежностью и добротой. Разве не так должно быть у любящих людей?
— Мы старались изо всех сил. Мы же пили на свадьбе медовое вино.
— Наверное, мало. Моя любовь не знает меры. Когда ты рядом, одна мысль о расставании переполняет меня горем. Я сгораю от любви к тебе.
Глаза женщины увлажнились. Он выпустил ее локон и протянул руку к ее лицу, чтобы утешить.
— И я. Это достойно сожаления, однако мы молились об избавлении, а любовь не уходит.
— В священном писании сказано, что безумная страсть низменна и недостойна.
Они говорили на франкском наречии, и в речи женщины явственно звучали твердые согласные — акцент нормандской знати. Его произношение было мягче и выдавало человека более низкого происхождения.