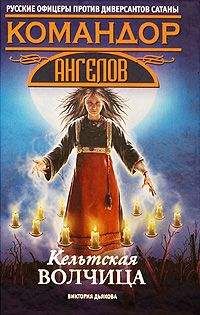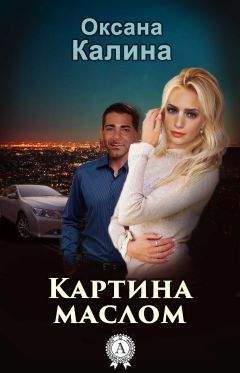В ту ночь, когда давно уже простившись с мечтой ощутить землю под ногами, она к великому счастью своему снова шла сама, держа Командора за руку, ее сразу поразил странный удушающий запах, царящий в подземной галерее.
Пройдя всего несколько шагов, она обнаружила, что запах усиливается, превращаясь в смертельный смрад. Смердело, верно, не так, как бывает от свежих, не захороненных трупов — это был тяжкий запах старой падали, прелого мяса, уже разложившего и иссохшего.
Объяснение нашлось быстро и в первый момент обескуражило княжну. От главного прохода направо и налево ответвлялись коридоры — в них, представлявших собой ниши, обитали мертвецы почти что живого вида. Полностью одетые тела, воздвигнутые каждый в своем алькове, укрепленные на железных штырях, протыкающих тело со спины. Высохшие пергаментные лица, искаженные беззубыми ухмылками, издырявленные пустые глаза.
Тление не превратило покойников в скелеты, а всосало во внутренности тел высохшие, измельчившиеся кишки, сохранив не только остов, но и кожу, и даже некоторые мускулы! Издалека они натурально касались живыми, потому что время еще не закончило свою разрушительную работу.
Увидев все это, она тогда едва не потеряла сознание. Так вот на какой земле стояла Андожа, вот что хранилось в недрах под ней. И нет ничего удивительного, что столь необъяснимо тяжко складывались испокон века судьбы ее обитателей!
Заметив, как побледнела девушка, Командор объяснил ей, что старый монастырь, выстроенный из дерева на Прилуцком холме, был подожжен раскольниками и сгорел дотла, а новый каменный возвели позднее на довольно далеком расстоянии, чтобы оставшееся пепелище не смущало своим видом и не напоминало о неблагодарности паствы.
Особенность же сгоревшего монастыря состояла в том, что в нем единственном из всех обителей на Белозерье, издавна хоронили монахов по старой византийской традиции, не погребая: за счет чудотворной комбинации почвы, близкой к болотам, воздуха и сочившейся из туфовых стен жижи их засушивали в целости, а некоторых, особо отличившихся в самоотречении — и заживо.
Затворников оставляли на восемь месяцев среди выделений туфа, потом выносили, купали их в уксусе и ставили на свежий воздух на несколько дней. После снова одевали, возвращали в углубление и бальзамическим выдохом недр доводили до окончательного сушеного бессмертия.
Многие монахи хоронились в торжественных ризах, словно готовились отправлять службу и лобызать фиолетовыми губами искрящиеся золотом иконы. В бликах факельного огня их полумученнические, аскетические улыбки выглядели даже привлекательными — кому-то милостью живых братьев были возвращены и прикреплены клеем бороды с усами, что возвращало монахам прежний, торжественный облик. Кому-то опустили веки, чтоб он казался не ослепшим, а спящим. У других же облезшие головы являли миру совершенно голые черепа с рваными копчеными шкурками, присохшими на скулах под глазами.
За много столетий, пронесшихся со дня захоронения, некоторые тела покосились и походили на уродов — на их перекорченных костях едва удерживались стихари с выцветшими узорами и епитрахили. Проеденные червями, с расстояния они казались кружевными. На самых же древних мертвецах одежды совсем истлели, и под оставшимися лоскутьями сквозили тощие торсы с ребрами напоказ под барабанной ороговевшей оболочкой.
С тех пор монахини Сергии не раз приходилось использовать этот путь, чтобы добираться незамеченной из усадьбы князей Прозоровских в обитель Командора, расположившейся в развалинах старого Прилуцкого монастыря.
Но сколько раз не проходила она по кладбищу высушенных временем монахов, она глядя на них и вовсе забыв о цели своего похода, невольно предавалась размышлению о смерти и вечности. Она искренне жалела всех их, лишенных упокоения в земле.
Ничего набожного уже не виделось в представавшем ее взору страшном произведении живых над мертвыми, в этом наглядном параде покойников, способном только устрашить любого христианина, а вовсе не примирить его со смертью.
Как помолишься за упокой души такого, который смотрит на тебя со стены, как будто говорит: помни, я здесь, я никуда отсюда не денусь. И как же намереваются они преобразиться в земные телеса после Страшного Суда, если тела их торчат веками на шесте и с каждым днем все больше протухают.
Дождавшись, пока охотники угомонятся, и разговоры их стихнут, матушка Сергия вышла из своего укрытия за смородиновой изгородью и пройдя мимо еще дымящегося костра, подошла к просторному деревянному строению, примыкавшему к житнице.
Оно служило дворовым людям Прозоровских мыльней и никогда не запиралось. На ощупь в темноте ступать приходилась осторожно, чтобы случайно не задеть какой-то предмет и не привлечь к себе внимания. Мыльня представляла собой большую комнату для мытья, с передним притвором и предбанником. Повсюду стояли чаны с водой, пахло еловыми и можжевеловыми ветками.
Половину мыльни занимала печь, на которой грели воду — большая русская печь на опочке, фундаменте из бревен, с широким устьем. За печью, в том самом узком проеме между ней и деревянной стеной дома, который всегда оставляли, чтобы избежать пожара и находилась маленькая, едва заметная дверца — она вела в задний притвор, небольшое помещение, прежде служившее подклетом, но им давно уже не пользовались.
Именно там, за этой самой полуистлевшей дверцей, в заброшенном подклете посреди всякой поломанной деревянной утвари, которую сваливали здесь годами, а может быть и столетиями, покрытой пылью и плесенью, затянутой паутиной и находился вход в подземную галерею монахов, которым тайно пользовалась матушка Сергия.
Пройдя незамеченной и на этот раз, она вошла в подклет, достала спрятанный за старой, покосившейся скамьей факел, разожгла его — с ним ей предстоит совершить путешествие до обители Командора Сан-Мазарин, когда вокруг не будет никого, кроме копчено-вяленых тел ушедших слуг божьих. Только они почти что с час будут взирать на ее путь. Но она давно уже привыкла к их застывшим в приветствии смерти ухмылкам.
Приподняв несколько трухлявых бревен, матушка Сергия осторожно спустилась по склизкой лестнице и аккуратно возвратила бревна на их прежнее место над своей головой. Теперь — только вперед и как можно скорее.
На сей раз она вовсе не думала о мертвых монахах, обступавших ее со всех сторон. Ее гораздо больше волновала судьба Лизы и тех людей, которых она оставила в усадьбе Прозоровских. Она спешила к Командору, потому что таков был ее долг, доложить о проявлении темных сил, но более того, потому что того требовало ее сердце. Догадавшись, кто на самом деле явился в усадьбе править свой дьявольский бал, она не могла позволить Евдокии и тем, кто прислал ее вновь в Андожу, свершить их планы.