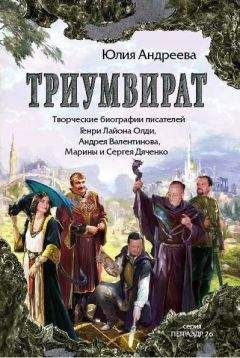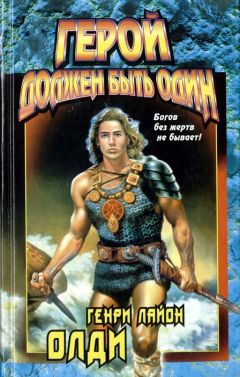Хотя Большую Тварь художник явно никогда не видывал. Те, кто ее видели, те потом не рисуют. И рога у нее (у Твари, то есть) отсутствуют, и морда не как у крокодила, а плоская и шире, ну и, понятное дело, дыма она из пасти отродясь не пускала…
А пятиголовых змеев – этих даже я не встречал. И те, которые Я, – тоже… Но местные, надо полагать, лучше знают – встречал и рубил, и вполне успешно. А вот средняя морда змия мне кого-то напоминает… Медонта, что ли?… Что ж это получается: пять голов – пять Порченых жрецов Согда?! Интересная аллегория…
Следующие восемь подвигов нагоняли тоску полным единообразием. Ой-ой-ой, братцы и сестрицы, сколько ж я народу порубить успел, пока в Зале отсиживался! Не покладая рук…
Скрипит дверь. В храме резко светлеет, солнечный бич хлещет по моему изваянию и клинки в руках статуи вспыхивают то ли радостно, то ли зловеще. Свет бьет мне в глаза, я щурюсь и различаю лишь темный силуэт на фоне проема. Но меня человек явно видит. Ну-ка, ну-ка, правоверный, как тебе второе пришествие?…
Человек дико визжит и принимается скакать, размахивая руками. С минуту я тупо гляжу на него, размышляя о странности здешних ритуалов, потом понимаю, что меня приглашают выйти из храма.
Приглашение становится все более настойчивым, у меня чуть не лопаются барабанные перепонки, и я решаю не прекословить. Тем более, что в мои планы не входит посвящать остаток Вечности созерцанию собственного героизма.
Прошествовав к двери, я задерживаюсь на пороге и получаю увесистый пинок от крикливого и мрачного туземца – и правильно, нечего зря пялиться на чужие святыни. Видимо, статуя походила на оригинал меньше, чем мне сгоряча показалось.
Я ускоренно покинул храм и снова прищурился. Не от пинка, конечно, который пришелся совсем на другую часть тела, а от солнца, прочно забытого мною в сиреневых сумерках Зала. Пора привыкать заново… и к солнцу, и ко всему остальному…
Когда глаза мои обрели способность видеть, я обнаружил невдалеке множество разноцветных кибиток, вокруг которых суетились темнокожие люди в тюрбанах и халатах; а также выяснил, что под пальмами древнего Мелхского оазиса пасутся банальные овцы и с десяток верблюдов. Один из них покосился в мою сторону и меланхолично плюнул.
Кочевники. Храм. Кибитки. И стоят здесь не первый день и не в первый раз – по всему видно. Овцы, опять же… И верблюды. Раньше ничего этого тут не было. Кажется, жизнь успела сделать очередной виток.
А небо… небо все то же. Здравствуй, небо! Будем привыкать заново…
…Я привыкал уже несколько часов подряд, причем привыкал довольно своеобразно: меня сторожили два здоровенных смуглых воина с ассегаями, а неподалеку бушевал расширенный совет племени. Поначалу я ничего не мог разобрать, кроме одного: чужака застали в храме Великого Отца Маарх-Харцелла, а в оный храм и своим-то без особой надобности ходить не рекомендовалось. И теперь совет племени битый час выяснял, кто я такой, откуда взялся и что положено со мной делать.
Предлагалось многое и разнообразное. А я все никак не мог понять: почему они не пытаются получить ответы на свои вопросы у меня, вместо того чтобы долго и безуспешно спорить? Правда, пока они препирались, я успел сообразить, что говорят кочевники на одном из знакомых мне наречий племен Бану, только произношение оставляло желать лучшего: или время, или всеобщее возбуждение сделали свое дело. А некоторые выражения были мне совершенно неизвестны, и, кажется, к счастью…
Я лежал, слушал и привыкал. Нет, богом меня явно не считали. И не надо. Лишь бы им сгоряча не пришло в голову меня казнить. Или попытать для разнообразия. Думаю, в этом случае всех ждало сильное разочарование. Для роли казнимого я, со своим Моментом Иллюзии, присущим всякому бесу, никак не годился. А так – сколько их было, судеб, масок, тех, которые Я…
Наконец старейшины (вожди? жрецы?) устали от собственных воплей, так и не придя к единому мнению, и потребовали привести святотатца.
То бишь меня.
Суровый седовласый вождь в неприлично вытертом для патриарха халате внимательно осмотрел меня с ног до головы, неодобрительно поцокал языком и буркнул нечто нечленораздельное.
Догадаться было нетрудно. «Ты кто такой?» и еще одно слово. Короткое совсем… хорошо, хоть одно.
Мог бы и раньше спросить.
– Человек.
Ответ вызвал оживление окружающих.
– Как ты проник в храм Великого Отца племени Бану Ал-Райхан, Вечного Маарх-Харцелла?!
Ну не объяснять же им, как я туда попал на самом деле?! Или что я и есть Великий Отец Маарх… Карх – хх… ну и имечко! Не хочу быть богом. Хочу человеком. Пока получится.
– Не помню.
Не знаю, поверили ли мне, но бородатый доходяга с размалеванным лицом и в особо высоком тюрбане – я сразу окрестил его жрецом – засеменил к вождю и шепнул ему на ухо:
– Отец Маарх-Харцелл отнял память у осквернителя!…
Наверное, он решил, что Харцелл отнял у меня заодно и слух. Я не стал его разубеждать.
Вождь согласно кивнул.
– Ты не помнишь, кто ты и откуда? – Вопрос был больше похож на утверждение.
Мне не хотелось его разочаровывать. Как и жреца.
– Не помню. Ничего не помню.
– Даже как тебя зовут? – подозрительно спросил вождь.
– Не помню, – привычно повторил я, поскольку еще не успел придумать себе имя.
– Что ты умеешь делать?
– Не знаю. Может быть, руки вспомнят. Голова забыла.
Вождь нахмурился. Слишком умная фраза. Особенно для святотатца, чей разум помутил гневный Маарх…
– Его надо наказать, – упрямо заявил один из старейшин. Он мне сразу не понравился. – Давайте побьем его камнями.
– Он уже наказан, – презрительно бросил жрец, садясь на циновку. – Пусть живет. Он правильно сказал – руки вспомнят. А работа найдется.
Я посмотрел на грязных верблюдов и понял, что работа действительно найдется.
Вождь снова согласно кивнул. Похоже, здесь всем заправляет тощий жрец. Учтем…
– Хорошо. Пусть остается с детьми песков Карх-Руфи. Мы найдем для заново родившегося имя и дело.
…Почти год я растворялся в терпкой, хрустящей на зубах естественности Бану Ал-Райхан. Три пыльных зимних месяца в Мелхе, три жарких перегона между оазисами Сарз и Уфр, три долгих выпаса на северо-восточных пастбищах, где уже начиналась степь, запретная для гордых и наивных детей Карх-Руфи… Иногда у меня создавалось впечатление, что за счет природного барьера хребтов Ра-Муаз с одной стороны и одуряющей жары и безводья пустыни – с другой, племена Бану – которые еще оставались – словно выпали из общей картины мира и не спешили вернуться.