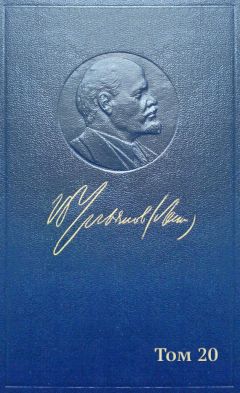– А моё добрейшее божество – это Оля. – мечтательно улыбнулся Алёша.
– Что же это за божество «Оля», как он выглядит?..
– Не он, а «она»… – улыбнулся Алёша. – …Как я могу рассказать тебе?.. Как я могу тебе рассказать достойно?.. Если бы я был лучшим поэтом–певцом и тогда не решился бы… Нет, Чунг – я не нахожу достойных слов… Может и нет вовсе таких слов…
Барабанная дробь постоянно прорывалась спереди, но была едва слышной, но вот хлестнула вдруг в полную силу, так что даже и стены вздрогнули; одновременно с этим донёсся и хор голосов – который размеренно, с удручающим однообразием, уныло всё повторял и повторял что–то – в несколько мгновений опротивело это однообразие, и ещё – стало жалко тех, кто пребывал в таком унылом существовании.
И Алёша и Чунг шаг за шагом продвигались всё вперёд и вперёд, и знали они, что там, впереди ждёт их какое–то мрачнейшее испытание, однако же старались не думать об этом – хоть ещё сколько то пробыть среди тех светлых образов, которые плели их воспоминания.
– Вот знаешь ли. – с пылом говорил Алёша. – Вот я сейчас здесь иду с тобою, говорю, а её рука на моём лбу – греет меня. Знаешь – я даже чувствую это тепло, и даже образ её пред собою вижу!.. Вот – сейчас склонилась надо мной…
Он чуть прикрыл глаза, и на губах его отразилась светлая, счастливая улыбка.
В это время откуда–то спереди прорезался жуткий, мученический вопль, однако ни Алёша, ни Чунг не обратили на этот вопль никакого внимания – они были заворожены этими волнующими мгновеньями, когда так переплетались два мира – Алёшин лик пылал – юноша был подобен и вдохновлённому божеству, и терзаемому адом демону. Он вытягивался куда–то в пустоту, но явно видел и чувствовал за этой пустоте дорогие ему образы.
– Оля, ведь всё будет хорошо!.. Не рви, не рви так моё сердце!.. Неужели же ты предчувствуешь что–то мрачное, что ты погибнешь, Оленька?!.. Ведь не может же быть такого – нет, нет!!!
И тут он резко замер и согнулся, потому что сейчас в мгновенья запредельного откровения, почувствовал тоже, что и Оля – что ей, в весенний ласковый день и на весне жизни своей суждено найти вечный приют в земле родной и под белою берёзой.
Проход тем временем повел вниз и сделался совсем узким. Барабанная дробь и беспорядочные вопли ещё возросли, и вмещали в себя столько однообразного, должно быть уже давным–давно тянущегося унынья, что он и не умещался в этом проходе, и прямо–таки распирал его стены, и должно быть от того они покрыты были трещинами из которых нестерпимыми, оглушающими волнами накатывался смрад. С каждым шагом усиливалась какая–то невнятная, но полнящая воздух жуть, которая вступала в схватку с чувствами друзей.
Чунг вынул длинный охотничий кинжал и несколько раз извилисто и стремительно рассёк им воздух.
– Я поползу первым. – проговорил Алёша, и выхватил из рук друга кинжал. – …Это потому, что я сейчас с Ольгой пообщался, потому что силы великие в себе чувствую… Ну всё – не время на разговоры – мне так кажется, скоро меня уж возвратят. Там у нас такое… Да, впрочем – не время рассказывать; пошли скорее…
И вот они пошли – впереди Алёша, позади – Чунг. Вначале друзья ещё держались за руки, однако ж потом проход стал ещё и сужаться, и пришлось разжать эти объятия, ползти друг за другом на карачках. Проход продолжал сужаться, и как ни клонился Алёша к полу, всё же неровный потолок бил его и по затылку, и спину расцарапывал, каждое новое движенье вперёд приносило новый удар, и уже трещала, гудела голова.
– Говорил же тебе… – хрипел Алёша. – …Тут весь расшибёшься… И кто это прорубал… Как можно было прорубить и пролезть в такой узкий проход… Карлики что ли какие–то… Эй, Чунг! Чунг, ты там ещё?!..
Быть может – и был какой–то ответ, однако же за теми заунывными стенаниями, которые прорывались спереди, совсем не слышал Алёша этого ответа. Тут как шилом голову пронзило: «Чунга уже нет! Поглотила его одна из тех многочисленных трещин, мимо которой проползали!» – и тут же, наполняя паникой, вместе со встречным током тяжкого, смрадного воздуха, понеслись один за другим кошмарные образы грядущего: проползёт он ещё немного, и там проход сузиться настолько, что он застрянет, да так и будет лежать среди этих, давящих отчаяньем стен; одинокий, среди мрачнейших образов он будет постепенно сходить с ума, и в конце концов – станет грызть эти камни, хохотать безумно, а потом и к хору заунывному присоединиться, и будет скрежетать, надрываться вместе с этим хором века, века – всё это в одно мгновенье пронеслось в стонущем его сознании, и вот Алёша попытался вывернуть голову, назад взглянуть – слишком узок был проход, ничего он не увидел, и только очень сильно ударился об очередной каменный выступ. удар был настолько силён, что в первое мгновенье ему даже показалось, что расколот череп – ещё сильнее хлестнуло отчаянье – страстно жаждалось жить, бороться, любить – он чувствовал, что по голове течёт кровь; вот липкая струйка и по лицу побежала, в глаза попала, ещё больше затемнила мир; хотел дотронуться до раны руками, но не мог их так выгнуть, и вообще – всё тело затекло, отдавало болью; почти уже не слушалось его:
– Надо прорываться вперёд, вперёд, вперёд… – несколько раз, словно заклятье повторил он. – …Если бы Чунг полз сзади, так уже давно дотронулся бы до моей ноги – но, может его разбудили… Да – наверняка его разбудили… Что ж оставаться здесь, ждать?! Нет – тело ведь заледенеет; он поймёт – как вернётся, поползёт следом… Что же с головой – почему так гудит?.. Трещит… Эти круги перед глазами?! Всё темнеет, темнеет – неужто пробит череп?!.. Нет же, нет!.. Вперёд! Вперёд! Жить – бороться!..
Он сделал ещё несколько рывков вперёд, и это были судорожные, нерасчётливые рывки, от которых он получил ещё несколько сильнейших ударов. Голова трещала, перед глазами в бездну закручивались ревущие воронки; обильно стекающая по лицу кровь казалось прожигающей лавой. Но вот Алёша разом остановился – ещё раз ударился, но даже и не заметил этого: перед ним темнел скелет – кровоточащие, раскалённые молоты, набаты, тараны забились в голове: «Вот и с тобою тоже самое станется! Это ж твой предшественник, тоже здесь полз, к тем вратам великим прорывался… Вот и ты – ещё несколько движений, и точно также здесь застрянешь!.. А сколько он пролежал здесь, продёргался, проорал, прежде чем обратиться в этот скелет?!..» – и тут же, вторя этому отчаянью, нахлынул ледяной ветер, сжал, до костей проморозил – Алёша знал, что – это Снежная колдунья, и чувствовал себя таким ничтожным, измождённым, она бурей в его голове носилась: «Сдавайся!.. Поворачивай пока не поздно!.. Неужели ты не понял – борьбы тщетна, ты обречён!» – тут одновременно вспомнился купец с Дубградского базара, тот самый, который точно Кощей чах над своими пирогами, вспомнился и рассказ о сыне Дубрава – представилось, что и он станет таким же подлецом, и он вскрикнул: