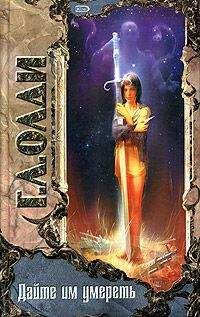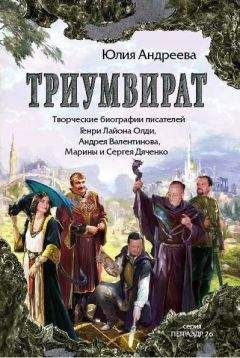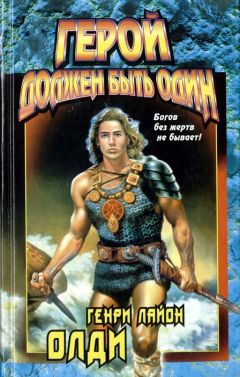Смерть террористов каким-то образом была связана с девчонкой, укравшей из музея меч, мой Гвениль, наш Гвениль — чтобы сломать его у нас на глазах!
Убить!
Убить подлую тварь!..
— Дядя Фаршедвард! Ой, как здорово! А мы ищем, ищем… хоть кого-то! — темно ведь на улице! И в мектебе света нет…
Детский вопль приводит меня в чувство.
— Валих?! Господи, как же я забыл…
Тени мечутся по стенам, низкорослый мальчишка вихрем врывается в учительскую и с разбегу повисает на вставшем хайль-баши — обезьянка на баобабе, паучок на скале, шестиклассник Валих Али-бей на мушерифе Фаршедварде Али-бее. Следом, прижимаясь друг к другу, робко входят еще двое. Я узнаю их, хотя блики от коптящих фитильков раскрашивают детские лица в маски демонов с побережья Муала. Близняшки бар-Ханани, брат и сестра, дети заместителя шахрадара Оразма, одноклассники Неспящего Красавца Валиха и…
— Ой, Валих!
И Сунджан ар-Рави — забытая всеми дочка нахального бородача — выскакивает из угла, где до сих пор беззвучно всхлипывала, и принимается хлопать в ладоши. Да, конечно, радость — знакомое лицо, теперь все будет в порядке…
Как жаль, что я давно вырос.
Из детства.
— Вам не кажется, господа, — старший Али-бей прижимает к себе мальчишку так, словно кто-то собирается отобрать его у мушерифа, — что нам не вредно бы оглядеться по сторонам. Возможно, в мектебе есть еще кто-нибудь… живой. Кроме того…
Я знаю, что он сейчас скажет.
Утро вечера мудренее.
Почему-то я в этом не уверен.
Палый лист, не злись
— это жизнь. Ложись.
— Затепли свечечку, гостенек… Я ведь видела — ты огарочек-то прихватил, озаботился!.. Все веселее при живом огне, а то сидим, как в могиле, мать-тьму радуем! Спички есть? Или огниво?
— Есть, госпожа Бобовай. Зажигалка.
— Госпожа?.. Плюнь, гостенек. Зови по-доброму, по-соседски — дура старая… Что морду воротишь? Не нравится? И мне не нравится, так что поделаешь, если и старая, и дура — захотелось правнучку в люди пристроить!.. Дура и дура. А язык запнется, так зови бабушкой. Я как услышу — сразу помолодею. И впрямь я тебе в бабки гожусь, с какой стороны ни возьми… Ох времечко-беремечко, не за что бабку взять, хоть с той стороны, хоть с этой!
— Шутите, госпожа Бобовай?
— Нет, проповедь читаю. Самое время для проповедей, краше и не придумать! Жарко тут у них, духотища, расстегнусь я маленько… небось постыдишься бабку насильничать, а, гостенек? Худыш тебя потом за бабку вверх корнем в землю посадит, он горазд сажать, мой Худыш-Фаршедвардик! Помню: не успели от груди отлучить, как уже в песке ковыряется — тычет в ямку сучком тутовника, сажаю, говорит… до сих пор сажает, ждет небось — чинары из хануриков вырастут! Заболтала я тебя, гостенек? Ты уж прости старую!
— Ничего, госпожа Бо… бабушка. Мне и самому не спится. Только давайте потише, а то девочка проснется.
— Плохо ты ее знаешь, гостенек, ой плохо — с детства строптива, что хочет, то и делает! Захочет — проснется, а не захочет — хоть пушки выставляй и залпом, залпом… Ума не приложу, в кого такая? А ты глаз не отводи, так прямо и говори, по-солдатски: в вас, бабушка, в вас, голубушка! Ты говори, а я кивать стану. Навроде болванчика из вэйского фарфора, только те все больше «нет» кивают, а я буду вроде как «да»… Против правды рожном переть несподручно. Папаша-то ее хренов смылся, не успело девке полгода стукнуть, — говорят, после аж в Мэйлане объявлялся, телеграмма от него пришла, на десятилетие дочки… вспомнил, пес, утешил! А я думаю: беда у него случилась, вот он и откупался от судьбы, телеграммой откупался, добром вынужденным… Пес, он и есть пес. Надеюсь, сдох уже под забором. А мамашу, внученьку мою, доктора прямо на столе зарезали. В больнице рустака.[33] Живот у ней прихватило, вот лекаря и постарались — дежурство-то ночное, а ночь праздничная выпала, руки дрожат после чарки-другой… Ладно, что я тебе все о горе-злосчастье?! Давай о хорошем, гостенек?
— Давайте, бабушка. Только и вы уж тогда не обессудьте: бросайте «гостенька», зовите по имени. Знаете ведь — Карен я…
— Ладно, Каренчик, считай, по рукам ударили. Но и гостеньком через раз обзову — ты бровей не хмурь, в мои лета слова привычные бросать опасно. Брошу, потом не подберу. Да и приятно: в кои-то веки у старухи гость объявился, гость-гостенек, значит, не зря небо копчу! Спасибо Худышу, расстарался, направил в наш тупичок!..
— А он вам родственник, господин Али-бей, или просто знакомый?
— Родич, Каренчик, самый что ни на есть родич. Молочный. Говорила ж тебе: от груди, мол, отлучила… кормилица я его, Худыша. Молочная в те поры была, что твоя корова! Сцеживалась почем зря; впрочем, наши бабьи тяготы не солдату в уши пихать! Видать, с моего молочка-то и разнесло Фаршедвардика, гора горой! Али-беи, всем семейством, меня до сих пор уговаривают махнуть рукой на Ош-Дастан и переехать — они, мол, и домик с садиком купят, и прислугу наймут, и то и се… Удивляются — вредная старуха, отказывается, гордостью пухнет! Как им объяснить Каренчик, али-бейскому племени, что не до гордости мне! Помру я в их домике, от скуки помру, от пыли, от телевизора по вечерам да от улыбок прислужьих на рассвете! От всего этого за фарсанг смердит! А в родном тупичке старуху Бобовай всякая тварь знает, кто за советом придет, кто под балкончиком встанет, слово за слово, наругаемся всласть, потом мириться будем, столы накрывать: идите, гости, на старые кости — жизнь, Каренчик, а не богадельня за Али-беевы динары! У тебя вот, к примеру, мать или бабка есть?
— Была. Мама… была.
— Померла?
— Да, бабушка. Полугода не прошло.
— Схоронил? По-людски, как положено? На дакму[34] цветы носил?
— Схоронил, бабушка. По-людски.
— Жаль, вы, нынешние, сплошь железные, плакать не умеете… в себе копите. Болела небось — по тебе понимаю, что не старой померла, мама-то?
— Не старая. И не болела. Она…
— Да ты, ежели говорить трудно, лучше отвернись, Каренчик! Махни на меня рукой или обругай как следует… лезу в душу горбатым носом, ведьма, жилы в клубок мотаю!
— Вы, бабушка, себя сами так обругаете, что мне за вами ни в жизнь не угнаться. Молчите уж, а то я на вас за вас обижусь. А мама моя… видно, так карта легла. Тронулась она, бабушка Бобовай. Взяла мое казенное оружие, вышла на улицу и стала по соседям стрелять. Тетку Фатьму — наповал, кота теткиного пристрелила, внука подруги своей и Низама, лавочника, подранила — а там ствол у мамы в руках… «Проказа “Самострел”», не слыхали? Ах да, откуда вам… зато видали — когда у Руинтана-аракчи двустволка рванула. Помните, Арам вернулся и с ножом… Короче, взорвался ствол. Ну а через день — похороны. Сразу всех хоронили. Без кота, конечно.