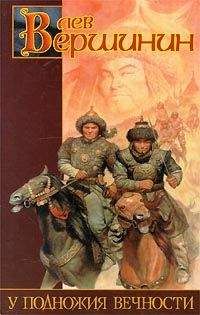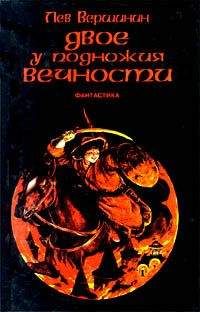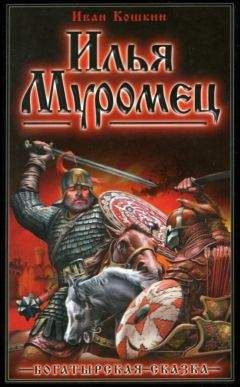Когда же веревка воли, натянутая до предела, с ясно различимым шорохом надорвалась, готовая лопнуть подобно изнасилованной неумехой струне, молотобоец пробил наконец дыру, выпуская из головы перешагнувшую рубеж терпения тяжесть.
Стало легко и пусто; ясный шепот услышал Ульджай и узнал голос отца. Он не мог оставить без помощи, он опять рядом; значит, не нужно бояться. Что такое ненависть сотни мэнгу, что такое гнусность разноязыких шакалов перед мудростью отца, познавшего ныне все сути и тайны?..
Шепот втекал сквозь отверстие, он был много гуще смолы и наплывал неостановимо, оседая в нутре черепа от затылка ко лбу; он был настойчив и столь липок, что шапка прилипла к волосам, отделенным от шепота твердой костью.
Отец подсказывал. Это не были слова, скорее – ощущения, не испытанные доселе; они источали сизый дым – Ульджай видел эти зыбкие струйки, словно заглядывая внутрь себя, – свивались в неясные знаки, а молчание монголов становилось невыносимым, и шорох за спиною стал явным, и шумно втянул ноздрями воздух Тохта, сделав шаг назад…
…и тогда все, что слышал, но не мог понять Ульджай, вздыбилось, ударило вперед, через зрачки, расцвело огненным грибом и свело глотку, распялив губы в пронзительном визге:
– Встаньте, павшие богатуры!
В эту ночь воевода все же сумел заснуть. Прилег на лавку, не раздеваясь, и смежил веки, не забыв приказать холопу: не буди! Не было нужды подниматься с рассветом; почти приготовленный костер татарва станет еще украшать и запалит не раньше полудня, вот тогда и будет резон подняться на стену, поглядеть на прощанье бесовские пляски. В чреве бурчало, выпитый сверх меры мед ворочался густым комом; старею, подумал Борис Микулич, раньше разве б ощутил такое после пяти-то чар? Ну шести, без разницы. И еще подумалось: а выстояли ведь, не сдали стен, молодец Борька, орел… но это уже было затуманено, неясно. Не додумав, провалился в тяжелую дрему и почти тотчас очнулся.
За окном выли псы. Заунывный вой метался по проулкам, протяжно жалуясь на кого-то небесам, а когда, истончившись, исчезал, другой пес подтягивал на другом конце детинца, и третий, и пятый взвывали тоскливо, и окно, наспех заткнутое пуховой подушкой, не удерживало режущий ухо, мерзко вскуливающий плач…
– Чертовы дети, – ругнулся Борис Микулич; перекрестил лоб, помянув нечистого. – Зря не сдержался, ночью-то. К чему бы такое? – подумал, прислушиваясь. Знахарки сказывают, коли воет пес белый, так к свадьбе, а коли черный, так к беде, а ежели пегий… нет, не смог припомнить к чему; да и не было надобности: это ж если во сне собака взвыла, так примета верна, а я-то не сплю…
И проснулся.
Ясный день сиял за окном, а над лавкой сгорбился городовой из доверенных и осторожно, но и настойчиво теребил за плечо; грубое лицо дружинника, красное от морозца, было тревожно.
– Прокинься, воевода!
Углядев нешуточную заботу в глазах опытного ратника, Борис Микулич понял: нельзя нежиться. Кряхтя, встал, потянулся, разминаясь. Тотчас возник холоп с лоханью, полил на руки, подал вышитый рушник.
– Ну? – буркнул воевода. Студеная вода чуть уняла тупую боль в затылке, но все равно было гнусно. Оттого и спросил неласково.
– Дак что? Татарва совсем одурела. На стены б не кинулись…
Дубье. Сколько уж лет при воеводе мужик, до старшого дослужился, вместе в степь хаживали некогда, а ума не набрался. Ишь ты, на стены… где ж такое видано, чтоб костер складывали степные попусту? Ни у кого из косоглазых такого не заведено, ни у половцев, ни, опять же, у печенегов былых (дед сказывал); а новые поганцы суть те же, что прежде, ну малость разве позлее. Костер поставили, значит – уходят, примета верная.
– Дубье ты, Платошка, – вслух уже фыркает воевода.
Ратник согласно кивает. Дубье и есть, что ж еще? – чтоб думать умно, на то ты, Микулич, у нас и воевода.
– Дубье, – повторил уже вовсе беззлобно, больше для порядку.
Однако же и проверить не помешает, что стряслось, коль Платошу озаботило. Береженого, известно, и сам Господь бережет…
На ходу бросил в рот жменю кислой капусты, запил рассолом; с лесенки сошел уже ко всему готовый, бодрый, словно бы и помолодел. Ох и день! Как не зима на дворе: солнце вовсю жарит, небо синее, ни ветерка… тоже небось радо небо, что устояли?
Подмигнул светилу, кивнул дружиннику; пошел, наслаждаясь свежестью и теплом.
– Ночью-то как, Платоша? – спросил не оглядываясь.
– Дак что? Стражу трижды проверял, не спал ни единый; поганые тихо стояли. Разве вот псы…
– Что псы? – вздрогнул Борис Микулич.
– Дак… выли, ровно по покойнику…
Проболтавшись ночь на стене, ратник вымотался вконец; он шагал, едва поспевая за скорым на ногу воеводой, и каждое слово давалось не без труда; однако же отвечал быстро и толково.
– Я, Микулич, Карая свово уж и в избу со двора взял, а он-от изнутри на волю рвется…
– Воет?
– Скулит…
– Не сбесился ли?
– Не… – выдыхает ратник, втихую злясь: да что же это в псиные беды так-то вцепляться? – Ладный пес. Да и не всем же сразу беситься…
Закашлялся. Сплюнул.
– Кони опять же по всему детинцу блажили, едва стойла не разнесли…
На том и замолчали. Ничего особого вроде не поведал Платон… ну выли и выли, кто их, псов, разберет?.. а только почудилось в тот миг воеводе недоброе. И, уже взойдя на стену, вглядевшись попристальнее в татарский стан, понял Борис Микулич: так оно и есть! лучше человека псы беду чуют…
Татары разбирали сруб. Криволапые фигурки, отсюда вовсе не страшные, смешные даже, суетились, рассыпаясь на стайки, растягиваясь у взвоза в длинную неровную цепь…
– Платон! Всех на стену! – негромко приказал воевода.
…и многие из них держали в руках выбранные из сруба длинные, тщательно обрубленные жерди – когда стена низка, такие жердины сойдут и за лесенку…
– Смолу! Смолу подтянуть!
…а по заснеженному косогору уже брели к городу вражьи вои, увязая в подтаявших сугробах, и воевода отметил мельком, что само по себе сие странно: не воюют так степные, не отрываются настолько от основных отрядов… и что-то еще неладное было в молчаливом наступлении поганых…
– Тихо идут, – удивленно пробормотал Борис Микулич.
…да, беззвучие! они не подбадривали себя истошным визгом, ставшим привычным уже за время осады, и это тоже удивило, но не тишина была главным несообразием, нет, нечто иное: у татар не было в руках оружия, и щитами они тоже не прикрывались, хотя стена была уже близка и стрелы вот-вот брызнут с нее…
– Ну, молодцы! с Богом!
Загудели тетивы. Десятки стрел полетели со стены; иные, немногие, миновали цель и ушли в снег, но большинство не подвело: острые наконечники вошли в шеи, в груди, в животы наступающих, пробив стеганые тегиляи,[82] но поганые и не думали падать, они шли так же неторопливо, и оперения русских стрел трепетали в такт шагу неуязвимых ворогов…