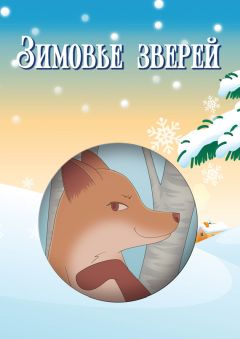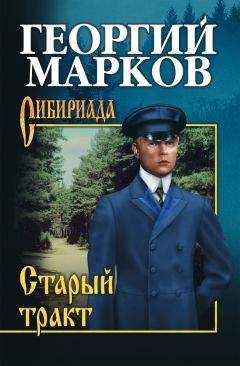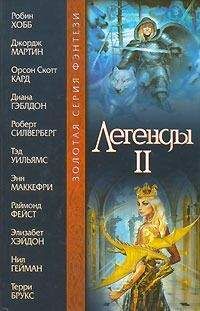Отец в тот вечер не вернулся, позвонив и сказав мне, что задержится на симпозиуме, обязанном перерасти в банкет. В конце разговора, перед тем, как положить трубку, он тихо добавил: "будь там осторожнее", словно предчувствовал что-то. Он прежде почти никогда так не говорил.
Ночью, изменившей мой мир, за окном бушевала страшная гроза.
Улыбаюсь, перечитывая: начало, как в сказке. Так оно и было – по крайней мере, для меня. Но поначалу это была страшная сказка, полная тайн.
Молнии сверкали в темноте, разверзая ее, и в сгустках мрака на мгновение казались искрящиеся глаза ночи. Чувство глубокого наваждения окутывало меня, как будто воздух вокруг густел и сворачивался упавшими на плечи складками, стены сужались, потолок беззвучно трескался, готовый рухнуть, а за спиной вырастало нечто из аморфных теней. Чувство чуда, спаянное со страхом, переполняло меня; в такт с ударами грома била нервная дрожь. Я был мальчишкой, мне исполнилось тринадцать – читая эти строки, что вы знаете о мальчишеском страхе перед Вселенной, бесконечность и отрешенность которой я только начинал сознавать?
Громы и молнии, одиночество и расколотое небо, озаренное от горизонта до горизонта, распластанное давящим сверху, непроглядным космическим мраком непредставимых бездн – дрожащая занавеска колыхалась даже здесь, за вибрирующим стеклом в подрагивающей оконной раме из пластика – тряслась моя душа, в груди и животе зияла тянущая, ноющая пустота, яростно требующая заполнения чем-нибудь – чем-то особым.
Когда сверхъестественный ветер вдруг со страшным звуком распахнул до того едва приоткрытую створку, струи ливня обрушились на ковер и на пол с разъяренной жестокостью, я вскрикнул, гулким эхом пробуждая мертвый дом – и что-то глубоко во мне надорвалось. Все эти годы не зная страдания, лишь смутно предчувствуя его, теперь я внезапно, неистолкованным и неподвластным чувством увидел приближение неотвратимой беды.
Бросившись к подоконнику, увернувшись от намокшей занавески, хлестнувшей в лицо, я схватил створку – и расширенными глазами увидел, как через бежевую стену ограды к нам в сад лезет кто-то чужой.
В грозовом полусвете была различима хрупкая насквозь промокшая фигурка, и, кажется, на выпирающем узоре переплетенных стальных шпилей пришелец застрял, отчаянно дергаясь, никак не в силах перебраться сюда.
– Эй! – крикнул я громко, в чужом присутствии сразу же потеряв свой страх, становясь уверенным, каким при посторонних всегда был отец. – Э-э-эй!
Чужой вздрогнул, пытаясь поднять голову и взглянуть на второй этаж, чтобы увидеть меня – я встретил глазами запрокинутое белое лицо, черные омуты глаз, залитых ливнем или слезами, но отчего-то увиденных четко, как вблизи. Взгляд выражал бессилие.
Махнув рукой, я рванулся вниз, топая по лестнице, как слон, накинул ветровку с капюшоном, влез в сандалии и с разбегу вляпался в грязь, поскользнувшись в которой, упал. Вскочил, как заведенный, хромая, бросился вперед, словно кто-то гнался и настигал – чувство необыкновенного схватило и повело, небо разверзлось величайшим ливнем, который знавала земля, ливнем, желавшим залить меня с ног до головы. В десяток длинных прыжков я достиг подножия стены, клокочущего пузырящейся рекой, и задрал голову, пытаясь разглядеть пленника оград.
Это была девчонка. Свесившись оттуда, одной ногой уже ступившая на каменный парапет, белой от напряжения рукой ухватившись за ажурное плетение, чтобы перенести все тело, она как-то зацепилась, и теперь не могла освободиться, восседая на частоколе, подобно древней наезднице из героических легенд. Волосы тяжелым хвостом прилипли к плечу, намокшая челка скрыла брови, торс облеплен светлой футболкой, джинсовые шорты и резиново-тряпичные кеды, мокрые насквозь – порождение мальчишеского ада с яростью в потемневших глазах. Сверкнули досадой, но еще я увидел в них удивление, неуверенность и испуг.
– Сейчас! – крикнул я, и полез наверх, все также яростно, словно кто-то подгонял. Чуть не свалившись, оцарапав руку, поравнялся с ней, уже не стараясь удерживать на голове спадающий капюшон, так же, как и она залитый с ног до головы этим сумасшедшим дождем, я глянул на чужачку, словно время было как раз для знакомства.
– Я зацепилась! – прокричала она сквозь гром, откидывая сползшие волосы назад.
– А!..
– Там! – изгибаясь, указала за спину, куда не могла развернуться. Я передвинулся, задев ее ногу, понял, что отсюда не достать. Она умудрилась зацепиться в двух местах. Чугунным шпилем проткнула штанину коротких шорт у самого бедра, а приподняться для того, чтобы освободиться, ей не давала застрявшая в выкрутасах ажуростроителей ступня.
– Я перелезу!
Она поморщилась, своим бессилием вызвав во мне жалость, но делать было нечего, пришлось ей вплотную прижаться ногой к ограде, пропуская меня на левую сторону. Избегая смотреть на девчонку, я переполз по узкому парапету, едва не обнявшись с ней, и, с облегчением оказавшись слева, перебрался на ту сторону, наклонился, пытаясь освободить ее ногу. Она уже была растерта, на щиколотке кожа покраснела и две маленьких ссадины сочились кровью, бледной в пленке воды. Нужно было повернуть ступню под прямым углом к ограде, но, перекошенная, фактически нанизанная на проткнувший шорты шпиль, она сделать этого не могла. Несколько минут прошли в бесполезной борьбе, заставлявшей ее стиснуть зубы, дернуться от боли несколько раз.
– Не получается! – несчастный и скривленный, как от оскомины, ощущением ее неудобства, заявил я, вызвав новый приступ гнева и ярости в ее несчастных, сверкающих глазах.
Нужно было приподнять шорты, чтобы освободить ее от шпиля, сантиметров на пять. Ткань тянулась на три с половиной-четыре, и, искуснейшие жрицы самой изощренной любви, вы не можете представить, как изгибалась эта незнакомая девочка, чтобы помочь мальчишке, который сквозь стиснутые зубы боролся за ее свободу с коварством немых вещей.
Наконец бедро было на нужные сантиметры оголено, мелькнула светлая полоска незагорелой кожи и узорчатая белая ткань, незнакомка смогла со стоном выпрямиться. Многие взрослые не могут знать и доли того упоения, что с этим стоном познал я. Она была не менее счастлива, и, спустившись быстро, словно кошка, уже ждала меня внизу, запрокинув голову, как недавно запрокидывал ее я.
И почему-то вид ее устремленного к грозовому небу лица, перекошенного прищуром, скомканного дождем, озаренного саднящей болью ступни, показался мне настолько захватывающим и прекрасным, насколько были смутные образы и мечтанья, которых я никогда раньше представить себе не мог. Сердце мое ухнуло в колодец, который на дне своем содержит сонм сорвавшихся, да так и не вставших на место мужских и мальчишеских сердец из всемирной истории, нога подвернулась и поехала вниз по камням, руки, сведенные судорогой, не успели за что-либо уцепиться – и в результате я стремительно съехал прямо по покрытой мохом стенке, ободрав колени, локти и лицо.
По идее, кончиться это замедленное падение должно было ударом о землю и трещиной в костях, но папа растил здесь, у самой стены, густой декоративный мох. Он смягчил удар, и я отделался острой болью, в которой утонул неловкий вскрик, и саднящими углами рук-ног.
– Больно? – спросила она, уже не обращая никакого внимания на дождь. В глазах ее были жалость и то же переживание чужой боли, что минутами раньше ворочались во мне.
– Ага! – морщась, кивнул я. Потом подумал, что все это ужасно глупо, и крикнул: – Пошли! – указывая на дом.
Она побежала по лужам вслед за мной, шлепая как-то неритмично и странно. Только на пороге я заметил, что спасенная в одном кеде, а тот, что был на застрявшей ноге, так и остался где-то в темноте.
– Надо переодеться! – прокричал я, захлопнув дверь, все еще пытаясь быть громче дождя. В тишине прихожей это прозвучало как гром.
Мокрая девочка вздрогнула, поднимая большие темные глаза, держась нерешительно и недоверчиво, смотря то на меня, то на лужу, растекающуюся подо мной, то на такую же, стекающую вкруг ее ступней. Ее трясло от холода, она обхватила себя руками, но никак не могла справиться.