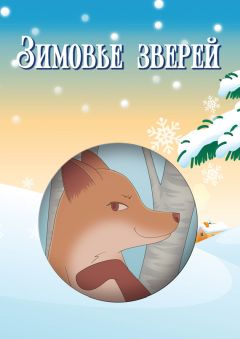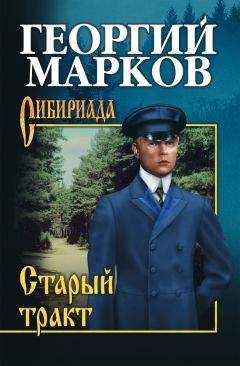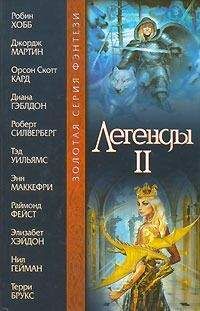Дом все еще отражал дробное эхо легких шагов, и голос Светы удивительным образом застыл на всякой вещи, к которой прикасалась ее тонкая рука. Впервые на моей памяти он так ожил – и впервые мне показалось, что оживаю весь я, целиком.
Уснул сразу же, будто провалившись в бездонную темноту – а утром, по привычке встав с восходом, я уже знал, что люблю ее.
Мне не хватало ее каждой клеточкой тела, каждым движением мысли, каждым лучом души, светящейся в груди. Странное тянущее чувство, пустота в груди, нытье внизу живота, сплетенное с тягучей сладостью и необъяснимой легкостью, щекочущей с ног до головы.
Речи бессловны, слова бессильны, мне не удастся заставить вас поверить, но все же, в свои тринадцать лет я почувствовал, что смысл жизни обретен. И странная, непостижимая уверенность в том, что она почувствует то же самое, не оставляла меня.
Папа, мой молчаливый непредсказуемый папа уже был там – в своем чуть мятом костюме темно-серого цвета, с опустошенным стаканом и оберткой от таблетки в руках.
– Похмелье, – небрежно бросил он, откидывая подушку в сторону, вставая с локтя и жестом приглашая меня. – Сынок, никогда не пей. Даже если заставляют.
– Даже если начальство? – улыбаясь, спросил я.
– Проклятые чинуши, – усмехнулся он. – Нельзя позволять им верить в твое согласие. Ты никогда ни с кем не должен быть согласен.
– Папа, ты ведь совсем не пьяный.
– Нет, сынок.
– Почему ты никогда не пьянеешь?
Он не задумался.
– Пьянеют, потому что уходят. Мне некуда уходить – я… всегда.
Я давно уже понял, что не думать о маме он просто не мог. Она была для него как воздух. Он с этим смирился, и, кажется, уже почти не страдал – или боль стала слишком привычна.
– У меня будет так же?
Он помолчал, пожевал губами. И глянул мне в глаза:
– Очевидно, у тебя все будет так же, как у меня.
Лучи восходящего солнца, истаивающие розовым, уже почти что желтые, освещали его покрывающееся свежей щетиной лицо. Он казался задумчиво-отрешенным, словно памятник в сквере, свободный от всех проблем, не обращающий внимания на семенящих голубей и детей.
– Пап, я влюбился.
Он растянулся на полу, раскидывая руки, отодвигаясь и одновременно становясь ближе во сто крат. Лицо его трещиной расколола улыбка, выразительная и глубокая.
– Влюбился, – негромко повторил он, и щеки его горели, как от жары.
– В девочку из соседнего двора, папа. Откуда была наша мама. Я думал, там давно уже никто не живет. Ее зовут…
– Света?
– Как ты узнал? – спросил я, не слишком удивляясь, заранее зная ответ на вопрос.
– Как обычно, – не пожимая плечами, ответил он, кивая потолку. – Ты не мог влюбиться не в Свету.
Готическая семейная тайна дохнула дымом в лицо.
– Она моя двоюродная сестра? – с почти сериальным надрывом спросил я, предчувствуя худшее.
– Нет, – лениво ответил папа, – хотя возможно более так было бы лучше. Ты уверен, что любишь ее?
– Почему нет? – от этого вопроса я дернулся, как от шлепка.
– Что ты чувствуешь?
– Не знаю, – ответил я неуверенно. – Все так… насквозь! Мир вертится. Вокруг столько счастья. Пап, это вправду любовь?
– Не знаю, – внезапно довольный ответил он. В первый раз за всю жизнь говоря эти два простых и совершенно, совершенно диких слова! – Любовь не бывает одинакова. Тебе всего тринадцать лет. Трудно любить в тринадцать, ты даже не понимаешь, что с этим делать, и как.
– Как? Что?
– Возьми ее за руку, посмотри в глаза. Никто не ждет от вас поцелуев сейчас, или чего-то большего.
Он угадал мои мысли, снова. Я открыл рот, закрыл его, затем снова открыл, но главный вопрос задать не успел. Он перевернулся на живот и размеренно заговорил, подперев щеки руками, рассеянно взирая на восход.
– Ты должен понять, что все это значит – для мира, для нее и для тебя. Для чего это, к чему ведет. Какой может быть свадьба, сколько у вас может появиться детей. Каким окажется ваш дом, куда вы поедете отдыхать, что сможете делать вместе десять, пятнадцать лет спустя. Как заживете в старости, – он перевел дух, но, не утихая, продолжал, вводя меня в оцепенение, бросая в дрожь неудержимой истинностью каждого из сказанных слов, тем познанием, которое я искал слепым щенком. Раскрывая передо мной опыт, который я сам бы накапливал еще лет пятьсот, высказывая просто и ясно, как будто отсчитывая сдачу продавцу. – Ты должен стать ее водителем, и вести ее туда, куда она сама побоится идти. Должен суметь стать ведомым, чтобы отправиться вслед за ней, куда ей захочется тебя повести. Должен научиться завоевывать и уступать, владеть и подчиняться, творить и… – он внезапно споткнулся, словно не находя нужной рифмы, нужного слова, затем рассмеялся, сонно и устало, – и убирать мусор. Да… мусор всегда будет.
– Папа, – спросил я в полном молчании, разлепляя сухие губы и сжимая его руку своей, – что все это значит?..
– Расскажи ей все, и спроси ее. Послушай, что она скажет. Просто действуй и смотри. Все разрешится само… Если это любовь.
– Так что же мне делать? Как узнать?!..
– Заведи дневник, – без паузы посоветовал он.
*
Жизнь моя понеслась свежим ветром, буланым конем, скачущим по бескрайним, золотистым полям, напоенным ароматами расцветающих трав. Счастье не до конца осознанной любви пронизывало каждый шаг, и, не встречаясь с девочкой ни разу, я целую неделю видел и слышал ее каждый миг.
Дневник мой венчали угловатые, обрывочные фразы, вроде “Вспоминал Свету. Какая она красивая. Люблю ее”, и по большому счету я не знал, о чем писать. Фантазии сменялись четким изложением действительности, галопом неслись мелкие события, среди которых идеи и мысли путались, возникая друг из друга и не особенно заботя автора – просто ложась на бумагу уроком для будущих поколений.
Потом наступило воскресное утро, которым мы встретились во второй раз.
Уже со второго дня после знакомства я весь извелся.
– Пап, я хочу к ней пойти.
– Сегодня? – он достал из кармана смартфон, сверился со своим рабочим приложением, с каким-то графиком-календарем, и отрицательно покачал головой:
– Нет, сегодня не получится. – А затем обыденным тоном сказал фразу, от которой волосы у меня едва не встали дыбом. – Наш дом окружен невидимым силовым полем, сегодня стагнация, и выйти за пределы зоны значит… риск.
– Какой зоны? – медленно, внятно спросил я.
Папа не мог мне врать. Это было сутью нашей жизни. Но сейчас, я был уверен, он хотел бы ответить неправдой, или хотя бы смолчать.
– Одним словом, – поморщившись, сказал он, – это можно назвать аномальной зоной четырехмерности. Граница подвижна, обладает нестабильными флуктуациями, но общий график имеется, мы с Евгением Палычем все рассчитали еще лет восемь назад.
– Мы живем на какой-то аномальной зоне, и ты мне ни разу ничего не сказал? – уже не помню, когда в последний раз я бывал так изумлен.
– Ты еще многого не знаешь, Сережа, – пожал плечами отец, как будто не обсуждалось ничего особенно важного. – Я веду серьезную научную работу. Между прочим, засекреченную. Как-нибудь во всем разберешься, пока еще рано... Через четыре дня открывается устойчивый канал, и тебе ничего не сможет помешать. Жди. Сегодня все равно ничего не получится.
Секунду я соображал. Затем, принимая сказанное на веру, просто спросил:
– А если она захочет прийти сюда?
– Она не сможет, – папа помотал головой. – Ее способности сильные, но все время угасают. Лет с шестнадцати она вообще не сможет переходить границы поля. Просто перестанет замечать его.
– Что все это значит? – кажется, отныне это мой любимый вопрос.
– Значит, что она всю неделю может пытаться встретиться с тобой, но не сможет перелезть через забор, – по-философски меланхолично ответил отец, вставая и собираясь уезжать.
Мучительно дождавшись воскресенья, я в десять часов рванулся к ограде, приставил лестницу и перелез через нее. Странно, быть может, такова сила внушения, но в этот раз мне показалось, что нечто невидимое и упругое обволокло на самом верху – пропустило, но обдало холодом и тошнотой. В следующую секунду я позабыл об этом.