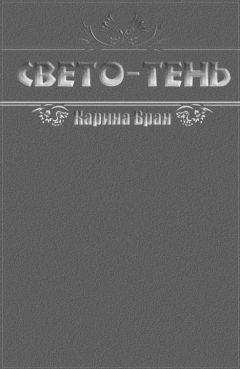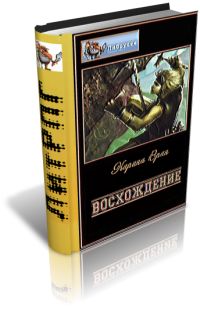— С па? — изумился я. — С Дмитрием Бельским?
— С Дмитрием Федоровичем, — подтвердила дама. — По роду деятельности — мы оба связаны со словом. Этот мир не слишком широк, если брать тех, кто смыслит в своем деле. Примите мои искренние, хоть и запоздалые соболезнования в связи с его уходом.
Я кивнул. Заторможено: "этот мир" — чем-то меня царапнуло словосочетание.
— К тому же, он был прямой потомок истребленного, казалось бы, полностью, рода. Я же — потомок, из рода вычеркнутый, — Федя Ивановна промокнула сухие уголки глаз кружевным платочком. — Это не имеет большого значения в наши дни, но это — иронично. Ирония — то немногое, что меня трогает.
— Впервые слышу про истребленный род, — продолжил удивляться я.
Вечер неожиданных открытий, иначе это было не назвать.
— Ветви вашего семейного древа впутаны в ветви древа истории, — путано высказалась женщина. — Впрочем, раз Дмитрий Федорович не стал тревожить сон предков и ваш душевный покой, невместно оно и мне. Оставим.
Меня подмывало запросить подробности, но тон, каким было сказано это "оставим" не подразумевал продолжения.
— Мне следует благодарить вас, — переменила тему хозяйка. — За тот эпизод с неловким знакомством в весьма стесненных обстоятельствах.
"Спасибо, что расстегнул саквояж", — перевел я.
— Не стоит, — проявил еще и скромность. — Любой на моем месте поступил бы так же. Простите мое любопытство: как случилось, что вы оказались… в тех стесненных обстоятельствах? Вам не позволили сойти в день прибытия теплохода из Казани?
— О! — взмахнула платочком она. — Нет, вы же не думаете, что я провела долгий срок столь… неудобно?
— Простите, не подумал, — я понял, что сморозил глупость.
Теплоход прибыл из Казани десятого, двенадцатого случился пожар. Больше суток в саквояже — и речь шла бы не про помятый вид. Человек в ее возрасте просто не разогнулся бы. А какой был бы запах… Потребности организма свойственны всем. Кроме, может быть, таких, как Джо.
— Я палеограф; годами занимаюсь памятниками древней письменности, — пустилась в пояснения женщина. — Сходно с тем, имею дело с прочими древностями. Держу скромную лавку. Всеми делами в ней занимаются наемные работники, но порой я захожу ознакомиться с любопытными экземплярами. Такие нет-нет, а попадаются. В то утро, двенадцатого, я как раз намеревалась посетить лавку: моим людям принесли на оценку шелковую пелену, расшитую… Увлеклась. Детали вышивки не существенны. В лавке я не побывала. Меня перехватили в парадной.
— А саквояж?.. — чувствуя себя не шибко умным, спросил я.
— Саквояж был тесный, — содержательно ответила Федя Ивановна. — И не мой, если вопрос состоял в том.
— А перехватили в парадной… — я в задумчивости проделал ладонями жест, как если бы снежок лепил. — Кто, каким способом? Понимаю, что это не совсем мое дело, но…
— Это самое странное, Андрюшенька. — доверительно сказала мне хозяйка дома. — Я не помню. Кто-то что-то сказал рядом со мной. Одну короткую фразу. Но я, специалист по слову, пусть не устному, письменному, не могу не то, что воспроизвести. Не могу даже вспомнить, что было сказано. А потом меня оглушили. Банально ударив по голове. До сих пор шишка.
Она приложила ладонь к затылку.
— И моториста ударили по голове, — сопоставил я. — Хотя он помнит подслушанный разговор.
— Возможно… — Федя Ивановна сделалась задумчивой. — Допустим, что среди тех, кто устроил все это громкое и яркое действо, как в водах морских, есть разные течения. Посудите сами: бедного моториста проще всего было убить. Если только слова, что он услыхал и передал, не были произнесены нарочно. Ровно для того, чтобы были они услышаны и переданы. Далее: к чему был первый взрыв? Тот, что случился, когда на борт только начали всходить пассажиры? Не будь его, тушения и эвакуации людей не произошло бы. Рвануло бы разом, с туристами, с экипажем. Причем как раз тогда, когда теплоход уже отправился бы, но еще не ушел далеко от причала. Было бы громко, ярко и с множеством пострадавших. Резонансно.
— И вы бы погибли, — негромко обронил я.
— О, как раз это-то едва ли, — она издала короткий и едкий смешок. — Сереженька ничего обо мне не сказал? Понимаю, он деликатен. Водою меня убивали в день, когда я появилась на свет. В первый раз. Огнем жгли неоднократно. Как видите, безуспешно. В этом случае была попытка совместить огонь и воду, а также силу взрыва, но весьма сомнительно, что эффект был бы… значителен.
Я совсем уж глупо захлопал ресницами. Это же насколько госпожа Палеолог не проста…
— Видите ли, Андрюшенька, не всем везет с семьей, — морщинистая рука сжала в кулаке платочек. — Так, матушка моя была из тех, кто свои интересы и цели ставит превыше всех и вся. Родительница жаждала сына, причем сына с силой великой. Как на зло, рождались дочери. Обычные, к тому же, хилые здоровьем. И тогда она замахнулась на то, с чем совладать не смогла… Много лет я искала хотя бы след того, с кем зачала меня мать. Очевидно, не с тем, чье отчество я продолжаю носить, как издевку. Годы поисков, сотни рукописей, любые упоминания, любые обряды… Увы, я оказалась бессильна.
— Тогда вода… — это мысль вырвалась в слух.
— Матушка, узнав, что произвела на свет очередную дочь, велела сунуть эту дочь в чан с водой, — темные глаза моей собеседницы почернели того сильней. — Когда повитуха обмолвилась, что дитя сучит ножками под водою, был дан приказ швырнуть дочь в колодец. Вмешалась добрая тетка со двора. Забрала меня, а после отчиталась, что дело сделано.
"Ма, когда ты снова позвонишь из солнечной Франции, я обязательно скажу тебе, как сильно твой сын тебя любит!" — проняло меня до печенок.
Те, кто запихнул Федю Ивановну в саквояж, что-то знали о ней. Отсюда и сомнения, укокошит ли ее взрыв. "Границы бедовости — важнее", — снова выходит на первый план. Какую реакцию должна была показать Беда-Беда? Вызвать меня, урвавшего огневую силу при гибели колдуна? Если да, то стоит их — кем бы они ни были, эти измерители границ бедовости — поздравить. Я явился на пожар, как по свистку. Засветился по полной программе.
— Был период, когда я сдалась, — заполнила повисшую паузу хозяйка. — Перестала доискиваться до истоков своего происхождения. И стала искать смерти. Потому как костер, разведенный добрыми соседями доброй тетки, что спасла мою жизнь во младенчестве, меня не взял. Выплюнул, не опалив.
— За что такую дикость… — начал я, но не договорил, женщина остановила меня жестом.
— Урожай не задался, коровы перестали доиться. Был бы повод, а крайнего найти легко. Особенно странную, нелюдимую девку, принесенную бабой-перестарком без мужа. Все это быльем уж поросло, и то место, и те люди. Я и не вспоминала бы, только иначе же не объяснить. Услышь не о людишках мелких, услышь другое: там, где вода и огонь бессильны, справились слова. Слова, которых я не помню.
— Но вы живы, — запутался вконец я. — Пострадал, по сути, только теплоход.
— Ты играешь в шахматы? — решила, видимо, добить меня хозяйка дома.
— Слабовато, но правила знаю.
Женщина приподняла голову, отчего часть складок на шее распрямилась.
— Фигуры отчетливо белые и отчетливо черные, — она смежила веки, и чуть заметно растянула в усмешке рот. — А в какие цвета обряжены игроки?
Мало кому нравится ощущать себя болваном. Я в это малое число определенно не входил. Я бы мог сейчас ответить мудрой женщине, что шахматисты рядятся, кто во что горазд. Благо, напротив излюбленных наших скамеечек для утренних посиделок с коллективом, что на Малой Садовой, если Невский перейти, будет Катькин садик. Как вечереет, там собирается люд весьма специфических наклонностей, и речь сейчас не про этих товарищей, что нам не товарищи. Днем же на скамейках сквера поигрывают в блиц (на деньги) любители резных фигур.
Если кто-то вдруг не в курсе, где такой скверик в Питере, может попытаться сориентироваться по старинной угадайке.