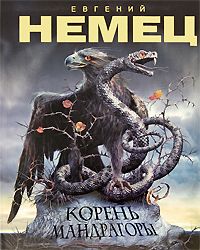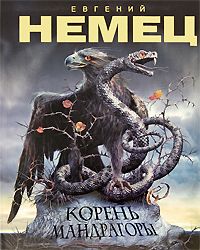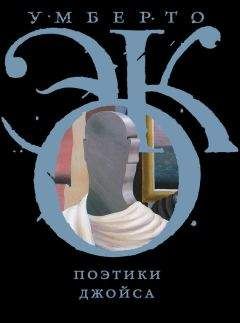— Кто… ты?
— Алеф, — прозвучал мой ответ, который я не очень и понимал.
Мара смотрел на меня с ужасом, и я видел, как этот ужас растекается в его груди чернилами, забивает поры легких. Его дыхание становилось все прерывистей, глаза мутнели. Через мгновение он захрипел, изо рта пошла розовая пена. Мара выгнулся дугой, потом расслабился и замер. Змея заползла ему на грудь и обратила ко мне свой взор. Беркут парил над головой. Я кивнул им и перевел взгляд на горизонт. По холмам текла огненная лава, небо колыхалось в оранжевом и алом.
Я закрыл глаза и направил взгляд внутрь себя. Растение ушло вместе с криком, но следы его пребывания были неизгладимы. Я видел мир, с которого содрали кожу. Я видел себя, вывернутого наизнанку. Мы соприкасались друг с другом оголенными нервами. Я был наг перед Вселенной, а она не считала меня безобидным младенцем. Вселенная превратилась в сумасшедшую звезду, решившую покончить со своими детьми. Если до этого я чувствовал жар, то сейчас я слышал, как трещат, пожираемые пламенем, мои кости, как закипает мозг и лопается кожа.
У меня подкосились ноги, я упал на спину. Но земля не остановила меня. Я, словно раскаленный клинок, погружающийся в воск, опускался сквозь податливый грунт все ниже и ниже. Земля не давала прохладу, она забирала мою энергию, но во мне ее было так много, что планета была неспособна вобрать ее всю. Я видел перед собой прямоугольник кровавого неба, он удалялся, и его заволакивала оранжевая муть. Я вдруг осознал, что место, куда я стремлюсь — центр планеты, самое пекло. И если я его достигну, смогу ли вернуться назад?.. Я собрал все силы и, хрипя, вскинул руки, ухватился за края своей могилы и рывком вытащил себя на поверхность.
Вокруг стояла огненная стена. Куда бы я ни смотрел, везде было только пламя. Я поднес к лицу ладони, они обугливались. Я попытался сжать кисть и услышал хруст ломающихся пересушенных пальцев. Я понимал, что если ничего не сделать, от меня останется горстка черного пепла. Пламя целенаправленно убивало меня, и я должен был спастись. И тогда я собрал в легких всю свою злость и волю к жизни и исторг этот сгусток в мир. Я орал всего одно слово, орал его так, словно оно и есть имя всему сущему, словно я призываю исполинов Аида служить мне и даже мысли не допускаю, что они могут не подчиниться:
— Д-о-о-о-о-ж-ш-ш-ш-ш-д-д-д-ь!!!
Я транслировал свою волю в мир и ни секунды не сомневался, что мир исполнит мое требование. Все, что накопилось во мне за двадцать восемь лет жизни: мамины руки, теплые и нежные; ее же голос, раздраженный и даже истеричный; умный внимательный взгляд отца; гвоздь, вогнавший в меня отчуждение боли и страха; школьные товарищи, падкие на лицемерие и подхалимство, как на шоколадные конфеты; глупая и ленивая праведность преподавателей, не способных видеть дальше собственного носа; мораль, спрятанная в броню тяжелого танка, подминающего под свои гусеницы здравый смысл и человеческое достоинство; впалые щеки отца и его огромные черные глаза; его «почему мы — люди?», его «найди предназначение», его смерть как спасение, как избавление; человечность, пахнущая нафталином; любовь, испуганной белкой убегающая в дремучий лес собственных страхов; Мара, вложивший мне в руки меч, все то, что давало мне силу жить и оставаться самим собой, и теперь еще мандрагора, разорвавшая мое сознание… — все это стало самостоятельной силой, одной из тех, что диктует законы, одной из тех, которым подчинено мироздание.
— Имя мне Алеф!!! Я призываю д-о-о-о-о-ж-ш-ш-ш-ш-д-д-д-ь!!!
И дождь прошел. И потушил пожар.
Три раза солнце вставало по правую руку от меня и садилось по левую. Я не обращал на это внимания, но какой-то внутренний счетчик продолжал по привычке отсчитывать дни. Я смотрел на мир и видел его целиком. Со всех концов Вселенной в мое сознание неслись сияющие спицы, чтобы пронзить мой разум и оставить в нем дыры. Я видел сосну — каждую изумрудную иголку отдельно и всю мозаику хвои и веток как единую систему; я понимал, в какой момент роста ствол изогнулся и что было тому причиной; я слышал, как корни дерева все глубже продавливают грунт, впитывают влагу и сосут из нее минеральные соли. Я обонял каждый цветок, каждую травинку холмов, каждую молекулу аромата, испускаемую ими в душистую атмосферу долины. Я понимал язык насекомых, слышал под дерном копошение червей и личинок. Я, как змея, улавливал кожей вибрацию гор и абсолютно точно знал, где сейчас происходит обвал и где он произойдет через час. С севера на меня неслись тысячи — сотни тысяч человеческих жизней, и каждую из них я чувствовал так, словно все они были моими. Я испытывал удовлетворение от бессмысленных достижений, но больше — мрачное разочарование от неудач и потерь; безумное ликование влюбленности — и еще более безумную ненависть; мягкое чувство ласки и заботы — и желание забить близкого человека до полусмерти; темную тягучую зависть, и эйфорию, и лень, и экстаз, и трусость, и еще миллионы всевозможных оттенков чувств и эмоций…
Я до хрипоты орал на подчиненных — и молча готовил на кухне лагман.
Я смотрел в окно, втягивая ноздрями аромат свежесварен-ного кофе, — и резал горло молодому барашку.
Я плакал от страха, оставленный в одиночестве, — и, охваченный страстью, впивался в губы чужой жене.
Я писал бесполезные рассказы, зная, что цена им ломаный грош, — и, гонимый адреналином, сломя голову несся на скейтборде по улице.
Я в отчаянии рвал на себе волосы и вскрывал себе вены и, распахнув глаза, удивленно таращился на мир, еще не понимая, что вижу вокруг.
Я наносил на холст жирный сине-зеленый мазок — и опускал молот на раскаленную добела болванку.
Я ставил в церкви свечку за упокой — и проклинал Имя Господне.
Я принимал роды — и бил кого-то в грудь ножом… Я умирал, рождался и жил в одно и то же мгновение в тысячах проявлений.
Я не мог пошевелиться, не мог даже стонать. Я был парализован — распят на этих стрелах, и все, что мне оставалось, это надеяться, что я пойму и обуздаю эти энергии раньше, чем сойду с ума. Моя собственная жизнь растворялась, я уже не отличал, какие события в моей раздувшейся до размеров Вселенной памяти принадлежали мне, а какие нет. Я ловил языком стрекоз, рвал когтями джейрана, пикировал на полевку… — я не мог отличить себя даже от животных. Моя личность — то, что меня определяло как самостоятельную и законченную структуру, рассыпалась мелкими осколками по бесконечной пустыне космоса. Я терял собственную душу, и я… ощутил страх. Я снова был шестилетним мальчишкой и висел на ржавом гвозде. Но с этого крючка мне было не сняться, потому что это был кол, на который меня насадила Вселенная, словно бабочку на булавку. Чужие жизни этого мира навязчиво лезли в мое сознание, толпились и спорили, информация вливалась в меня бесконечным неистовым потоком, и мой разум тонул в нем. Ужас этот был невыносим, и смерть уже не казалась чем-то неправильным, напротив — от нее веяло успокоением. И я принял ее как избавление.