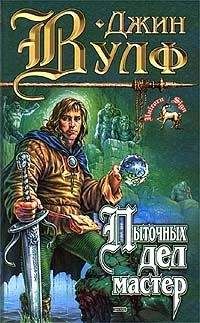– Готовы? Гиппарх? Сьер? Сьер, пусть кто-нибудь подержит твой меч – иного оружия, кроме аверна, в поединке не дозволено.
Я оглянулся в поисках Агии, но она затерялась в толпе. Доркас подала мне смертоносный цветок, а я отдал ей «Терминус Эст».
– Начали!
Первый брошенный лист просвистел у самого моего уха. Серпентрион, сжимая свой аверн в левой руке, пониже листьев, метнулся ко мне и выбросил правую руку вперед, словно желая выхватить мой цветок. Я вспомнил, что Агия предупреждала о такой опасности, и прижал его к себе – близко, как только можно.
Недолгое время кружили мы на месте, присматриваясь. Затем я нанес удар по его выставленной вперед руке, и Серпентрион парировал его своим цветком. Тогда я занес аверн над головою наподобие меча и тут же сообразил, что нашел идеальную позицию: стебель оказался вне досягаемости противника, а я в любой момент мог ударить или оторвать и метнуть лист.
Последнюю возможность я тут же проверил на практике, отделив один из листьев от стебля и метнув его в лицо противника. Тот, несмотря на свой шлем, пригнулся, и зрители за его спиной поспешили отпрянуть в стороны. Я метнул второй лист, а за ним – третий, столкнувшийся в полете с листом, брошенным Серпентрионом.
Результат столкновения оказался потрясающим. Вместо того чтобы погасить скорость друг друга и упасть на Землю, как обычные клинки, бритвенно-острые листья аверна, переплетясь, закружились в воздухе столь быстро, что еще прежде, чем опуститься хоть кубитом ниже, превратились в черно-зеленые лохмотья, засверкавшие в лучах заката сотней цветов и оттенков, словно яркий детский волчок, закрученный изо всех сил…
Что-то прижалось к моей спине. Ощущение было таким, как если бы некто неизвестный подошел и встал позади меня, слегка прижавшись своей спиною к моей. Было довольно холодно, и тепло чужого тела оказалось очень приятным.
– Северьян!
Голос принадлежал Доркас, но доносился откуда-то издали.
– Северьян! Да помогите же ему кто-нибудь! Пустите! Голос ее звенел, точно куранты. Цвета, поначалу принятые мною за радугу вращающихся в воздухе листьев, оказались радугой, повисшей в небе над заходящим солнцем. Мир был огромным пасхальным яйцом, раскрашенным всеми возможными красками. Близ моей головы раздался голос:
– Он мертв?
Кто-то другой рассудительно ответил:
– Да. Эти штуки всегда бьют насмерть. Проходи, если хочешь посмотреть, как его унесут…
– Заявляю о праве победителя на одежду и оружие побежденного, – сказал Серпентрион (голос его был до странного знакомым). – Отдайте мне этот меч.
Я сел. Сплетшиеся в воздухе листья еще шелестели в нескольких шагах от моих сапог. Над ними, все еще не расставаясь с аверном, стоял Серпентрион. Я раскрыл было рот, чтобы спросить, что произошло, но что-то упало с моей груди на колени. Я опустил взгляд – это оказался лист аверна с окровавленным кончиком.
Увидев, как я поднимаюсь, Серпентрион резко повернулся ко мне и поднял аверн, но эфор, разведя руки в стороны, загородил ему путь.
– Право благородного, солдат! – крикнул какой-то зритель из-за ограды. – Пусть встанет и возьмет оружие!
Ноги почти не слушались. Я огляделся в поисках своего аверна и увидел его только потому, что он лежал у ног Доркас, боровшейся с Агией.
– Но он должен быть мертв! – закричал Серпентрион.
– Тем не менее он жив, гиппарх, – возразил эфор. – Ты вправе продолжить бой, когда он поднимет свое оружие.
Я коснулся стебля своего аверна. Листья его шевельнулись. На миг показалось, что я тронул за хвост некое холоднокровное, но все же живое существо.
– Сатана! – крикнула Агия.
На миг задержавшись на ней взглядом, я поднял аверн и повернулся к Серпентриону.
Глаз его из-за шлема не было видно, однако все тело его как нельзя красноречивее выражало переполнивший его ужас. На миг он перевел взгляд с меня на Агию, повернулся и побежал прочь, к своему выходу с арены. Зрители загородили ему путь, и он хлестнул аверном направо и налево, как бичом. Раздался крик, за ним – еще. Мой аверн словно бы потянул меня назад – я не сразу понял, что это не аверн, а Доркас, схватившая меня за руку.
– Агилюс! – завизжала неподалеку Агия.
– Лаурентия из Дома Арфы! – раскатилось над полем, словно в ответ ей.
На следующее утро я проснулся на узкой койке в лазарете – в просторной комнате с высоким потолком, среди других больных и раненых. Я был наг и долго, пока сон (а может, то была смерть) не перестал сковывать веки, ощупывал свое тело в поисках ран, отстранение, как будто о ком-то вовсе постороннем, размышляя о том, как жить дальше без денег и одежды и как объяснить мастеру Палаэмону потерю подаренного им меча и плаща.
В пропаже – вернее, в том, что я каким-то образом сам потерял все это – я не сомневался. Бежавшая по проходу между койками обезьяна с собачьей головой остановилась, взглянула на меня и побежала дальше. И это показалось мне не более странным, чем свет, падавший на мое одеяло сквозь окно, находившееся вне моего поля зрения.
Проснувшись снова, я сел в постели. Какое-то мгновение мне вправду казалось, будто я, капитан учеников, проснулся в нашем дортуаре, а все прочее – возложение на меня маски, смерть Теклы, поединок – было лишь сном. Такое бывало со мной и после. Но затем я, вместо знакомого с детства металлического потолка, увидел беленую штукатурку, а на соседней койке – человека, сплошь замотанного бинтами. Откинув одеяло, я опустил ноги на пол. У изголовья моей постели спала сидя, привалившись спиною к стене, Доркас. Она была укутана коричневой накидкой, а поперек коленей ее, среди прочих моих пожитков, лежал «Терминус Эст». Мне удалось достать сапоги, чулки, бриджи, плащ и пояс с ташкой, не потревожив ее, но, стоило коснуться меча, она забормотала во сне и крепче прижала его к себе, и потому я оставила меч на месте. Большинство больных уже проснулись и во все глаза смотрели на меня, но никто не сказал ни слова. Дверь в конце комнаты вела на лестницу, спускавшуюся на двор, где били копытами о мостовую боевые кони. Резвившийся в проходе киноцефал вскарабкался на подоконник, и мне показалось, что я еще сплю. Я швырнул в обезьяну поднятой с пола щепкой, и она оскалилась на меня, обнажив зубы, не менее впечатляющие, чем клыки Трискеля.
На двор вышел солдат в кольчуге, чтобы достать что-то из седельной сумы, и я, окликнув его, спросил, где очутился. Думая, что я спрашиваю, в какой части крепости нахожусь, он указал на одну из башен и сказал, что Зал Правосудия – прямо за ней, а если я пойду с ним, то, пожалуй, смогу раздобыть себе что-нибудь поесть.
Стоило ему сказать это, я понял, что умираю с голоду. Я последовал за ним, и темный коридор привел нас в помещение гораздо менее высокое и светлое, чем лазарет. Здесь двадцать или тридцать димархиев поглощали обед – хлеб, говядину и похлебку из свежей зелени. Мой новый друг посоветовал взять миску и сказать поварам, что мне велено явиться сюда за обедом. Я так и сделал, и повара, несмотря на легкое удивление при виде моего плаща цвета сажи, накормили меня без возражений.