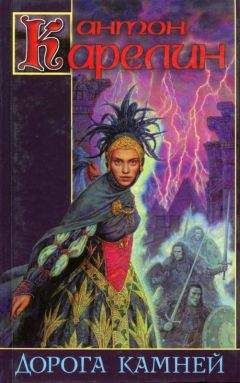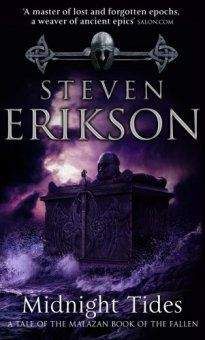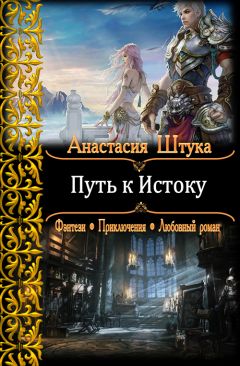И это было оскорбительно.
Птица нахохлила перья, вздёрнулась крыльями, рассыпая вкруг себя веер крошечных, сверкающих в солнечном луче прозрачных искр, застыла на миг, поднатужилась — и рявкнула изо всей силы.
На крик её, гортанный, неожиданный, наглый, громкий до слабого глухого эха, не ответил никто; лишь ветер лизнул огромные серые валуны, раскиданные древним ураганом и за столетия неподвижности обросшие переплетением сцепившихся кустов. Покоящиеся на холодной земле, устеленной мягкой, облегающей травой на тонких длинных стеблях.
Птица крякнула сиплым басом, прочищая горло для следующего плевка. Не ненавидеть все это, спокойно существующее вокруг, — в то время как её саму с каждым днём, с каждым часом душила изъедающая смерть, — она не могла. В сущности, единственное, на что она перед смертью была способна, так это рявкнуть пару десятков раз — недовольно, грязно, но на весь мир, — так, чтоб слышали и мучались все. В действительности это было единственным, способным хоть как-то облегчить её мучения.
Она разинула клюв, вкладывая в зарождающийся крик всю тщедушную мощь истерзанных кашлем лёгких, растягивая горло так сильно, что, казалось, в него поместится свернувшийся калачиком мышонок, со свистом втянула воздух, раздуваясь все шире и шире, готовясь обрушить всю пакость, накопленную бессилием, завистью и болью, на весь мир...
Но что-то хрустнуло в стороне — сухая ветка, лопнувшая под тяжестью окованного сапога; сухим щелчком прозвучало краткое, жёсткое слово, привычно выплюнутое бледными, чётко очерченными губами, — и свистнувшая в воздухе бледная стрела, осколок сгущённой магической силы, брошенный умелой рукой, смела птицу с камня, отбросив кувыркающееся чёрное тельце на десяток шагов.
Она захлебнулась криком, и все, что готово было вырваться в чистый воздух, напоённый ароматами росы и трав, излилось в неё саму, отравляя тело, и без того выеденное до скорлупы.
Впрочем, птице было уже наплевать.
— Ты посягаешь на мудрость вершителя, — с улыбкой, едва заметной в зарослях густой, тускло-седой бороды и нависающих усов, сказал старик в чёрном балахоне. Человек, опирающийся на посох, оголовье которого было выполнено в виде безглазой человеческой головы с чьей-то большой рукой, покойно охватывающей её.
Рыцарь в чёрных латах, с ало-чёрным плащом и каплей крови, застывшей на посеребрённой вязи нагрудника, с резкими чертами тёмного, уверенного и жестокого лица обернулся на слова старика, взглядом вычленив его из обступающих охры и золота осеннего леса.
— Я просто убил её, — ответил он, и голос его всколыхнул пространство вокруг, заставив его задрожать. — Я не желал её терпеть.
Голос у него оказался низкий, презрительно-жестокий и властный, привыкший повелевать. Впрочем, ничего удивительного в том не было. Старик и не удивился. Эти двое знали друг друга давно.
Взгляды их встретились.
Рыцарь, взирающий в бездонные колодцы выцветшей черноты, снова, как и в прошлый раз, подумал, сколь легко было бы убить его прямо сейчас. Ударить мечом и неподвижно следить, как фонтаном вырывается из пробитой артерии тёмная кровь, сверкая в солнечных лучах над запрокинутым плечом. Взять закованным в железо кулаком за бороду и размозжить голову, ударив о ствол или о серый обломок, которых в достатке валялось вокруг. Вскинуть руку в небрежном напряжении, рвануть Силу, к которой привык за долгие три десятка лет, ударить ею. Дождь алых капель, с шипением разъедающих тщедушное тело, ледяной шторм, бьющий из разверзающихся небес и скрывающий невысокую фигуру под серебрящимся вихрем ледяных осколков, огненный удар, пожирающий все, плещущийся вокруг неподвижно замерших, непривычно голых серых камней...
Рыцарь вздохнул.
Камни лежали где попало: разбросанные и так оставленные. Окружённые шёпотом золотящегося леса, пронизанного солнечными лучами. Обломки, помнящие былую незыблемость неприступного. Не просто камни. Руины крепости, когда-то рвавшейся вверх мощными бастионами и башнями, угрожавшей небу шпилями, раскрашивавшей закат сборами реющих по ветру алых знамён. Когда-то бесстрашно встречавшей осаду семи воинствующих Княжеств. С яростью отражавшей атаки многоликого войска союзников, вознамерившихся сломать хребет лучшему из рыцарств, которое знали земля и небеса.
Обломки крепости, выстоявшей в том бою.
И безнадёжно, неостановимо рухнувшей под натиском Силы, бьющей из полыхающей алым руки сгорбленного седого старика, с посохом, оголовье которого было в виде головы, накрытой ладонью жестокого, мрачного Божества.
Конечно, это не был стоящий сейчас старик. То случилось давным-давно, во времена героев и полубогов, ходивших по земле, и теперь вокруг развалин Астара возвышались стволы деревьев, годовые кольца которых исчислялись на сотни.
Но Божество, давшее Силу тому, давным-давно забытому старику, ныне владело этим, которого не знал и не помнил почти никто... Лишь самый могущественный и жестокий из врагов.
Иногда рыцарю казалось, что он всегда, с самой первой встречи хотел убить его.
Ветер подул сверху, робко касаясь тяжёлого шлема тускло блестящих чёрных волос. Закованный в латы молчал, рассматривая блестящие капли в густой белесой паутине, затянувшей с десяток увядающих жёлтых листьев невысокого куста. В паутине висел мёртвый усохший паук.
— Ты пришёл... не для того, чтобы договориться, — отсутствующе заметил старик.
— Мы оба знаем. Это невозможно.
— Почему? — спросил старик, не стараясь выглядеть неспособным понять. Вероятно, готовился загнать рыцаря в тупик, используя мудрость вместо копья.
— Было время ниспровергать, — чеканным тоном, холодным и мёртвым, ответил носитель алого плаща, расшитого чернёным серебром. — Вы отказались.
Старик опустил глаза, чуть шевельнул худым плечом.
Рыцарь посмотрел на него и едва слышно вздохнул.
Не было никакого труда, ни единого грана чести в том, чтобы убить беззащитного старика.
Госпожа, каждый оттенок чувств которой он слышал чутко и безошибочно, малейшее колыхание страсти которой рассматривалось им, как непререкаемая воля, ныне бесстрастно молчала. Решение, подумал он, Её интересует решение. Несмотря на пропасть, разделяющую Брата и Сестру, познавших различные края вековечной тьмы, Она все ещё надеялась приручить Его. Словно надежда такая в самом деле была. Или, быть может, Всевластная колебалась — именно теперь. Желала попробовать ещё один бесчисленный раз: перед тем как ступить на дорогу, с которой невозможен возврат.
Её интересовал ответ.
Вдвоём или одной?