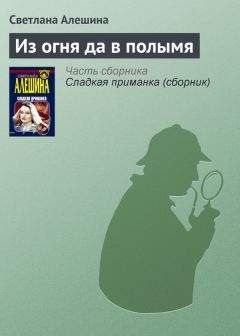Как много людей… зачем им селиться так тесно?
Улочки, то лежащие в тени, то опаленные солнцем. Женщин намного больше, чем мужчин — видно, те на работе. Что же будет, когда они вернутся??
…Играющие на мостовой малыши, вот-вот и попадут под копыта…
Нет… неправильно, не должно быть столько людей. Бело-зелено-золотое озеро, стоило и впрямь погрузиться в него, оказалось пугающим. И воздух здесь изменился, сгустился, ушла горьковатая нотка зелени: здесь пахло сырой известью, пылью, дымом и свежим хлебом, и чем-то приторно-сладким. Запахи перебивали друг друга, толкались, не сливаясь в общий хор. Дороги чем дальше вглубь города, тем выглядели чище, на многих ни сухого листика, ни веточки; но он предпочел бы обычную лесную тропу. Что-то неестественное было в такой чистоте: как этого можно добиться? Ведь сколько людей проходит по ней ежедневно?
То закрывая, то открывая глаза, выхватывал — шарахнувшись от их процессии, пробежал мальчик с плетеным коробом; кричат друг на друга разносчики — кто-то разбил кувшин; женщина в платье с нашитыми цветными лоскутами вытряхивает циновку; толстая пестрая птица с трудом взлетела на невысокий заборчик и вопит, будто ее режут.
Наконец толпа заметно поредела. Появились небольшие рощицы, разделенные мостиками, и строения здесь стояли неплотно. Кустарник с перистыми листьями почти скрыл очередной забор, а в нем обнаружились ворота, и всадники свернули туда, в широкий двор. Из золотистого выглаженного камня огромный дом; высокий фундамент — ни щелки, никак не залезешь, если не по лестнице подниматься. Крыша держится на столь же гладких каменных стволах, тоже светлых, но с широкими кольцами-полосами: словно толстые змеи застыли, стоят на хвостах. На террасу выбежала девушка парой весен постарше Кайе: алый и розовый сполох, цветы в волосах. Слетев по ступеням, не дождалась, пока всадники спустятся, пока грис уведут, кинулась к приехавшим, и кисти рук ее, увешанные голубыми браслетами из металла, плеснули, словно крылья, и зазвенели.
— Где вы так долго! Здесь было такое, дедушка даже хотел… Ой… — она заметила Огонька, которого только что спустили с седла. — А это что? Ведь полукровка!
— Подобрали в лесу, — сказал Къятта. Он девушке не улыбнулся, да и едва на нее посмотрел.
А она подлетела к подростку, гибкая и подвижная, но Къятта остановил ее, протянув руку.
— Скажи деду — мы сейчас будем.
Огонька, который едва мог ходить и даже стоять после долгого пути верхом, передали слугам или охране, и они были все одинаковые: любопытные, расслабленные, недобрые. На плече темный узор; а у тех, что поодаль стоят, не смея подойти и вовсе, кажется, никакого.
Иди, — Къятта подтолкнул его в спину, прочь от звенящей девушки. Кайе только кивнул Огоньку и махнул рукой.
Недолгой теперь дорога была, и мальчишка запомнил лишь, как отчаянно трещали цикады и ласточки носились низко-низко, порой едва не касаясь крыльями живой изгороди, мимо которой его вели.
Темно было там, где Огонька закрыли, сухо и очень темно. И, осознав, что остался один, он забился в угол, обхватив руками колени, и мечтал, почти что молился — никого больше, никогда, только чтобы никто сюда не зашел. А там, снаружи, люди, так много… больше, чем муравьев в муравейнике. Смуглые руки, звенящие серьги и ожерелья, громкие голоса. Как все они могут запомнить друг друга?!
Когда схлынули испуг и возбуждение, понял, что здесь совсем тихо. Так не было никогда — лес шумит, перекликается днем и ночью, а прииск стоял пусть не в лесу, но близко.
Думать, что теперь делать, казалось бессмысленным — не от него зависит. Тогда Огонек попытался понять, куда же он все-таки шел. Почему раньше не думал об этом? Почему не остался где-нибудь в безопасном месте? Откуда-то знал ведь, где в лесу безопасно. Что или кого он искал? Теперь был уверен: на прииск он вышел как раз в этих поисках. Но место оказалось не то…
А потом, после побега — ведь он как будто выбрал себе направление, двигаясь по солнцу и звездам. Что он искал?
Стукнул тяжелый засов и на пороге возникла фигура, черная в свете стоящей на полу маленькой лампы. Потом рука подняла лампу, и он смог рассмотреть.
…Кожа этой женщины была цвета темного меда, волосы удерживал широкий золотой обруч — гладкий, ничем не украшенный, длинное просторное одеяние из бледно-голубой ткани скрывало фигуру. Женщина подошла к Огоньку, поспешно вскочившему, положила ладонь ему на плечо и всмотрелась в глаза. Словно колючей лианой хлестнули по лбу; отшатнулся.
— Как твое имя?
— Я не помню…
Значит, он пошел в мать, не к месту подумал Огонек. Такие же черты у него, но тоньше, словно прочерчены на медном листе — а у нее округлые, мягкие. И она совсем другая — холодная, отстраненная. Почему? Интересно, а Къятта — в отца, или сын другой женщины? А сестра — это же она была на крыльце? — похожа на обоих братьев сразу…
— Где ты жил раньше? — резко прозвучал голос женщины, ножом вошел в череп между глаз.
— На прииске…
— До него?
— Лес…
— Как звали родителей? — он начал проваливаться в мягкую полутьму. Отчаянно замотал головой, пытаясь удержаться — он не хотел перестать быть собой…
— А ты можешь сопротивляться? — удивленно проговорила-пропела женщина, и мальчишка снова ощутил удар: лезвие в черепе провернулось, вошло глубже.
Какое сопротивляться? Что скажешь, когда в голове нож? Говорить он не мог, вот и все. Сколько это длилось, не знал, но она все же ушла наконец, и он был даже в сознании.
Вытер мокрые щеки.
Пока все складывалось неплохо… вроде обошлось, может, больше не тронут, раз ничего он не помнит. И место сухое, можно поспать. На прииске с верха шалаша вечно текло.
Когда спал, даже в забытьи чудилось: со всех сторон за ним следят много-много светящихся глаз. Сейчас что-нибудь вспомнит, и сразу сожрут.
Тридцать девять весен видела Натиу из рода Тайау, но выглядела много моложе. В облике женщины всё было от ее имени — “мед”. Полногрудая, неторопливая, с мягкими движениями и мягким смехом, она сохранила тонкий стан, несмотря на троих детей.
Много дождей и солнц прошло с того дня, как на прогулке увидел ее Уатта Тайау, и забрал в рощу неподалеку, а несколько часов спустя привел в собственный дом и оставил там. И большее сделал он — добился, чтобы Натиу приняли в Род, хотя отец Уатты противился тому, не понимая одержимости простой девчонкой. Для них — простой, хоть из хорошей семьи, уважаемой. Но довольно сильной уканэ оказалась юная девушка, и Ахатта Тайау согласился с прихотью сына. Золотая татуировка украсила плечо невесты, и Натиу позволено было снять браслет из серебра, знак осторожности Сильнейших. Серебро запирало способности уканэ, людей с “внутренней” силой, и те не могли ничего; пока не снимут, не отличались от обычного гончара или плотника. Но Восьми Родов Асталы это правило не касалось.
Натиу не любила Уатту, но лишь безумная стала бы отказываться от подобной судьбы — быть принятой в один из сильнейших Родов.
Двух сыновей родила Натиу, и оба не слишком походили на нее. Старший удался не столько даже в отца, сколько в деда, а младший чертами похож, но толку от этого мало.
А Киаль, хоть красавица, скорее напоминала не мать, а птицу-ольате.
Муж погиб много-много весен назад.
И все же Натиу могла гордиться собой даже не считая рождения таких детей — разве не она внушала верность не только воинам и стражам-синта Рода Тайау, но и простым охранникам их кварталов? Исподволь, по капельке помещала в сознание уверенность в том, что только этому Роду стоит служить, и жизнь отдать, если что.
А еще Натиу видела Сны.
Сон течет сквозь кожу, тело становится водой и течет сквозь сон. Ресницы отбрасывают лохматые тени. Ойоль, сновидица.
Давным-давно уканэ умели плавать по рекам снов, не тонуть в водопадах снов. И уже много-много весен никто этого не умеет. Редкие всплески — рыбка махнула хвостом, и вновь тишина.