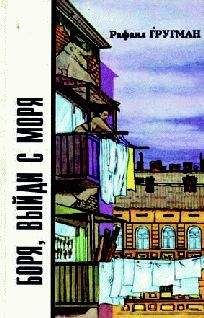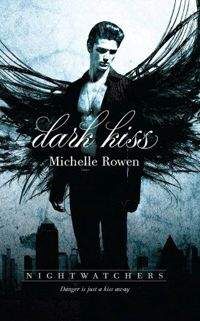за руки, чтобы не отвернулась.
— Нет, я не отстану. Если скрывать боль, легче не станет.
— Не могу, — шепнула Лия внезапно севшим голосом и зло вытерла глаза. — Не могу о нём думать, — повторила она собраннее. — Слишком многое на кону, в том числе его жизнь. Нельзя, чтобы чувства мне мешали.
— Хочешь сказать, он для тебя только помеха?
— Уж ты-то знаешь, что в жизни не всё так однозначно.
— Лия, — строго бросила я.
— Он был мне нужен. — Лия закрыла глаза. — И Дальбреку тоже. Мы ничего не могли изменить.
— Но?
— Я думала, он поедет со мной. Вопреки всему. Он не мог и не должен был, но в душе я всё равно надеялась, передумает. Мы любили друг друга, клялись, что политика с интригами не встанут у нас на пути… но они встали.
— Расскажи мне всё с самого начала. Так, как я тебе о Микаэле.
И мы проговорили несколько часов. Она поделилась самым тайным: как осознала истинную личность Рейфа; какая дрожь её пробрала на подъезде к Венде, как он носил у сердца её записку, а она презирала его на людях, вместе с тем мечтая обнять. Рейф обещал, что всё теперь будет иначе. За его голос Лия цеплялась, лишь бы не ускользнуть из мира живых. А при расставании они горько поссорились.
— Оставив его, я каждый день царапала на земле его последнее «к лучшему», пока сама не поверила. А потом нашла в трактире Берди свадебное платье, которое он спрятал, и опять всё внутри перевернулось. Я ведь уже отпустила его, Паулина, так сколько же ещё раз придётся?
Трудно найти слова. Даже после предательства Микаэля я каждый день по-новой вычёркиваю его из памяти. Вопреки моему желанию он прочно обосновался в мыслях, непрошеный, словно болезнь. Забыть его — всё равно, что заново научиться дышать: требует целенаправленных усилий.
— Не знаю, Лия, — ответила я. — Но сколько бы ни пришлось, я с тобой.
Я поглядела на ящик, принесённый Каденом. С виду без заноз, прочный. Повесила сушиться на гвоздь. И правда, постелить одеяльце, и колыбель выйдет неплохая.
Воздух рассекли крики.
Пачего настигли добычу.
Плачут дети,
Ибо тьма так густа,
Животы так пусты,
А вой пачего так близко.
Тише, мои милые.
Расскажи им, взывает Джафир.
О том, что было раньше.
Но что было — мне неведомо.
Ищу в памяти слова Амы.
Надежда. Конец пути.
Обречённо заворачиваю их в свои.
«Подступите ближе, дети.
Я расскажу вам, что было раньше.
Пока наш мир не стал бурой, безжизненной пустыней
Когда крутился голубым самоцветом,
Когда сверкающие башни тянулись к звёздам».
Глумятся стервятники,
Но не Джафир.
Он изголодался по сказке, как дети.
— Утраченное слово Морриган.
Глава пятьдесят шестая
Рейф
— Она в хижине недалеко от цитадели. С ней три женщины и Каден. Ну, и та кочевница, — доложил Тавиш.
— Вы ослушались приказа.
— Ты на это и надеялся, — ухмыльнулся Джеб.
— И благодарен нам, — ввернул Оррин.
Джеб кивнул на клетку с тремя вальспреями:
— А птицы зачем?
— На крайний случай. Прощальный подарок от Дрейгера. Если нас опять потянет в бездну, просил хотя бы послать весть.
Тавиш недоверчиво оглядел отряд и как бы между делом полюбопытствовал у капитана Ации:
— А откуда столько морриганских сбруй на лошадях?
Опережая ответ, Свен кашлянул. Ему этот вопрос так же неприятен, как и мне.
— Долгая история.
— Объясню позже, — махнул я Тавишу. — Возвращайтесь к остальным и разделитесь. Ехать по северному и восточному трактам, по три-четыре человека, не больше, — нельзя заявиться в город всей толпой.
Мы не обвешанные оружием солдаты, а крестьяне и странствующие купцы. Надеюсь, хоть впечатление производим убедительное.
Глава пятьдесят седьмая
Дышать.
Дышать!
Я подскочила на кровати в холодном поту. В ушах — строфы пророчества вперебивку с омерзительным механическим лязгом. Где я? По-прежнему в лачуге. За окном полночная тьма, тишину нарушают лишь тихие всхрапы Берди. Кошмар приснился. Снова улеглась, но сна ни в одном глазу. Задремала только ближе к рассвету и проспала допоздна, а там меня озарило: строфы и звуки приснились неслучайно. Венданцы починили мост. Враг всё ближе.
В лачуге одна Гвинет спала в кресле с малышом на руках. Капель больше не барабанила по вёдрам и кастрюлям, так что мне выпала возможность проскользнуть в город, — на улицах опять людно, затеряюсь в толпе. Да и Брин с Реганом, возможно, вернулись.
Одевшись, я увешалась оружием и набросила дорожный плащ. Если повезёт, уже к полудню мы с братьями и солдатами ворвёмся в Большой зал. Неплохо бы напоследок пробраться в цитадель и поискать улики, но раз мост вновь исправен, откладывать долгожданную встречу с министрами больше нельзя.
Я вышла из дома на носочках. На крыльце Паулина громоздила под крышу ящик.
— Тебе бы поберечь силы.
— Я родила, а не под лошадь упала. И сил у меня полно. Я ведь за столько времени успела и забыть, что по малой нужде может и не хотеться. Да и к тому же, какой труд — ящик вымыть? Его Каден с мельницы принёс. Сам, кстати, ушёл пасти свою лошадь и осликов. Овёс кончился.
Надеюсь, и правда увёл животных, а не поехал всё-таки «повидаться» с отцом.
— А где Берди с Натией? — Я прошлась по крыльцу.
— Отправились в город за припасами, пока дождь утих. — Она провела рукой по ящику. — Да, можно будет уложить малыша. Особенно когда всем надоест баюкать его на руках.
— Его баюкать ни за что не надоест. Гвинет его вообще не отпускает.
— Да я заметила, — вздохнула Паулина. — Надеюсь, не злится. Наверняка на душе тяжело — жалеет, что со своим малышом так не могла.
— Она рассказала? — удивилась я.
Мне-то казалось, это её страшная тайна. Я сама поняла случайно, ещё в Терравине, по её взгляду на Симону. Такой лаской лицо Гвинет больше не сияло.
— О Симоне? Нет, уходит от разговора. Видно, что любит её больше жизни, но этого же и боится. Поэтому не готова сближаться.
— Почему боится?
— Не хочет, чтобы отец узнал, — пояснила Паулина. — Он скверный человек.
— Гвинет сказала, кто он такой?
— Сказать — не сказала, но открылась по-другому. Мы с ней как-то без слов друг друга понимаем. — Она сняла мокрый фартук и повесила сушиться рядом с ящиком. — Отец Симоны — канцлер.
Я обомлела. Да, Гвинет знакома с тёмными личностями, но чтобы с хищником на верху пищевой цепи… Она не зря боится.
Не желая смущать набожную Паулину, я выругалась по-вендански.
— Да можешь и по-морригански. Поздно мне уже каяться. У самой, бывало, не