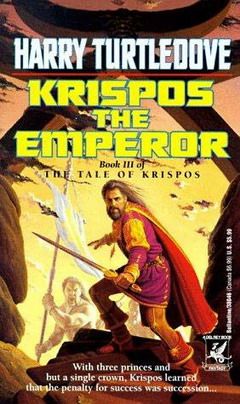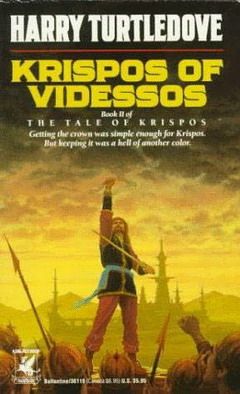Но такие взгляды соскальзывали с Сиагрия, как с гуся вода, и он, откинув голову, злобно расхохотался, ощутив испытываемое Фостием унижение, а затем развернулся и зашлепал по грязи прочь, словно намекая, что Фостий не будет знать, что делать с возможностью согрешить, даже если такая возможность плюхнется ему на колени.
— Бандюга проклятый, — процедил Фостий — но негромко, чтобы Сиагрий не услышал. — Клянусь благим богом, он знает о грехе достаточно, чтобы вечно торчать во льду; просто позор для светлого пути называть его своим.
— Он не истинный фанасиот, хотя готов спорить о вере, как и любой из нас. — В голосе Оливрии прозвучала тревога, словно она никак не осмеливалась сделать признание, готовое сорваться с ее губ. — Гораздо в большей степени он подручный моего отца.
— И почему меня это не удивляет? — спросил Фостий, до предела нагрузив слова иронией, но тут же пожалел об этом, едва они сорвались с его губ. Если он станет бранить Ливания, его отношения с Оливрией не станут лучше.
— Но и у Криспа, конечно же, есть люди, готовые выполнить любые его приказы, — с вызовом произнесла Оливрия.
— Конечно, есть. Зато он не напускает на себя набожность, отдавая такие приказы, — возразил Фостий, с удивлением прислушиваясь к тому, как сам защищает отца. Причем делает это уже не впервые со дня своего появления в Эчмиадзине.
Почему-то ему не хотелось произносить подобные слова в столице рядом с Криспом.
— Мой отец стремится освободить Видесс, чтобы светлый путь стал реальностью для каждого. Ты ведь не станешь отрицать, что это достойная цель?
«Он стремится к власти, как и любой амбициозный человек», — подумал Фостий, но, не успев произнести это вслух, рассмеялся.
Оливрия обожгла его взглядом.
— Я смеюсь не над тобой, — быстро заверил он. — Просто я подумал, что мы похожи на маленьких детей: «Мой папа может это» — «А мой папа может такое!..»
— А-а… — Она улыбнулась в ответ. — И правда. А о чем бы ты охотнее поговорил, кроме как о том, на что способны наши отцы?
Прозвучавший в вопросе вызов напомнил Фостию об их первой встрече в туннеле где-то под столицей. Если он собирался стать настоящим фанасиотом, о чем Оливрия постоянно напоминала в спорах с Сиагрием, то Фостию полагалось забыть об этой встрече или же помнить о ней как о пройденном испытании. Но еще задолго до того дня, когда он впервые услышал имя Фанасия, Фостий понял, что монашеская стезя не для его характера. И он помнил не только испытание; он помнил ее.
И поэтому ответил он не словами, а осторожно обнял ее за талию. Если бы Оливрия отпрянула, он бы искренне извинился. Он был даже готов убедительно разыграть заику. Но она не отпрянула, а позволила Фостию привлечь ее к себе.
В столице они смотрелись бы вполне естественно: юноша и девушка, счастливые и не обращающие внимания на все прочее.
Даже в Эчмиадзине кое-кто из прохожих улыбался, проходя мимо.
Большинство же, однако, готово было испепелить их возмущенными взглядами за столь откровенное и публичное выражение чувств.
«Святоши вонючие», — подумал Фостий.
Вскоре Оливрия отстранилась. Фостий решил, что она тоже заметила неодобрительность во взглядах прохожих, но она сказала:
— Ходить так с тобой очень приятно, но я не могу с радостью думать об удовольствии после… сам понимаешь, мы ведь совсем недавно видели, как прошла Последняя Трапеза.
— А, вот почему. — В мысли Фостия ворвался внешний мир. Он вспомнил радость на лицах Лаоника и Сидерины, отведавших последний хлеб и последнее вино в своей жизни. — Мне до сих пор трудно представить, что я смогу на такое решиться. Боюсь что я, как и Сиагрий, — только в меньшей степени — существо этого мира.
— В меньшей степени, — согласилась Оливрия. — Что ж, если честно, то и я тоже. Быть может, когда я стану старше, мир тоже сделается мне противен до такой степени, что я захочу его покинуть, но сейчас, даже если все слова Фанасия верны, я не в силах заставить свою плоть полностью отвернуться от него.
— И я, — сказал Фостий. Мир ощущений вновь овладел им, но на этот раз иначе: он шагнул к Оливрии и поцеловал ее. Первое мгновение ее испуганные губы были неподвижны, да и сам Фостий немного испугался, потому что не собирался ее целовать. Но затем ее руки обняли его, повторяя движение его рук, и на несколько считанных ударов сердца кончики их языков соприкоснулись.
Они тут же отпрянули друг от друга — так быстро, что Фостий даже не смог бы сказать, кто сделал это первым.
— Почему ты это сделал? — выдохнула Оливрия.
— Почему? Потому что… — Фостий запнулся. Он и сам этого не знал, по крайней мере, не настолько точно, как знал вкус ягод шелковицы или где в столице находится Собор. — Потому что… — попробовал он снова и вновь запнулся. — Потому что из всех, кто живет в Эчмиадзине, лишь ты одна оказалась по-настоящему добра ко мне. — То была часть правды, а об остальной части он не осмелился и размышлять; его переполняло влечение, а разум твердил, что влечение и греховность есть одно и то же.
Оливрия обдумала его слова и медленно кивнула:
— Доброта есть добродетель, продвигающая человека по светлому пути, связь между двумя душами. — Говоря это, она отвела глаза в сторону. Фостий присмотрелся к ее губам, и они показались ему чуть мягче и полнее, чем до того момента, когда он их коснулся.
Тогда он стал гадать — быть может, и ей сейчас трудно примирить то, во что она верит, с тем, что она чувствует?
Некоторое время они бесцельно бродили по улицам, не касаясь друг друга и погруженные каждый в свои мысли. Затем над верхушками низеньких крыш Фостий разглядел глыбу крепости.
— Пожалуй, нам лучше вернуться, — сказал он. Оливрия с облегчением кивнула, словно радуясь тому, что теперь у них есть куда идти.
Неподалеку от крепостной стены из какой-то винной лавки, словно джинн из бутылки, появился Сиагрий. Может, он и начал манкировать своими обязанностями соглядатая, но не желал, чтобы Ливаний про это узнал. Бандит уставился на парочку с насмешкой:
— Ну, вы уже уладили все дела с владыкой благим и премудрым?
— Это у Фоса дела с нами, а не у нас с ним, — ответил Фостий.
Сиагрию это понравилось, и он расхохотался, обдав Фостия винными парами, потом ткнул пальцем в сторону ворот:
— А теперь топай в свою клетку, и сам увидишь, как тебя там устроил Фос.
Фостий продолжал идти в сторону крепости. Он давно понял — если Сиагрий заметит, что его грубости причиняют ему боль, то он станет оскорблять Фостия и дальше. Войдя в ворота, он также заметил, насколько крепость стала ему казаться домом. «Но то, что ты с ней свыкся, вовсе не значит, что тебя могут заставить стать одним из них», — сказал он себе.