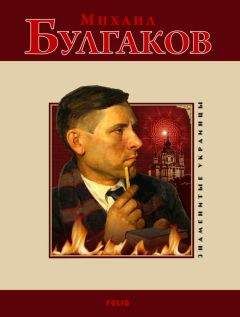Он молчал. У него была очень интересная мина. С одной стороны, я его, кажется, почти пристыдил. А с другой — не надо уметь слышать мысли, чтобы догадаться о чем он думает: «Ага, дурака нашел». Но он не нашелся, что ответить.
Зато Розамунда нашлась. Улыбнулась. Спросила:
— А ты отчего не пришел ко мне один, пешком, без своих адских прихвостней? Струсил?
Я подвинул ногой стул и сел. Устал я что-то.
— Я — некромант, — говорю. — Я же некромант, Розамунда. Я не умею вести себя благородно. Что с меня взять. Ну ладно. Хватит.
И оба посмотрели на меня напряженно. Уже не злобно — испуганно. Оба. Они как-то разом сообразили, что пора кончать бранить меня. Что теперь пришло время приговора.
Лицо у Розамунды вдруг сделалось очень человеческим. Просто насмерть перепуганным женским лицом. И она взглянула на меня заискивающе. А ее жеребец побледнел и сделал непреклонный вид. Написал у себя на лбу: «Умру как герой». Но геройского не получилось. Он так потел, что запах псины перебил ванильный вампирский холод.
Я вдруг вспомнил горькую усмешечку Доброго Робина — и мне неожиданно стало Робина остро жаль. Задним числом. Сам не понимаю почему.
— Значит, так, — говорю. — Публичный скандал я из вашей интрижки делать не буду. Про ваши фигли-мигли толпа челяди, конечно, в курсе — но пусть это будет сплетня, а не признанный факт. А то мне, некроманту, противно устраивать суету вокруг семейной чести.
Пока я это говорил, мне показалось, что у них от сердца отлегло. Розамунда даже мне улыбнулась и говорит:
— Неужели в тебе проснулась жалость? Ты же не убьешь мать своего ребенка, Дольф?
— Своего? — говорю. — Да?
Она вспыхнула и замахала руками. Может, хотела врезать мне по щеке, но передумала.
— У нас с тобой плоховато получались дети, — поясняю. — А может, и тогда кто помог? Ну да это неважно. Вы, золотые мои, меня не так поняли. Я сказал, что публичный скандал делать не буду. А что прощаю вас — не говорил.
У Роджера вырвалось:
— Ты — палач!
Я плечами пожал.
— По древнему закону Междугорья, — говорю, — совершивший прелюбодеяние с королевой приговаривается к публичному оскоплению, четвертованию и повешенью на площади перед дворцом. Я верно излагаю, Роджер?
Никогда не видал, чтобы так потели. Пот по нему тек струями; рядом с ним стоял канделябр, было жарко от свечей и, видимо, худо от ужаса — я же страшнее вампиров, право. И еще одно маленькое открытие — живые иногда воняют хуже мертвых. Правда, нечасто.
Питер хихикнул у меня за плечом; вампиры стояли у дверей, как пара мраморных статуй.
— Ты же не станешь… — пролепетала Розамунда.
— Да, дорогая, — говорю. — По закону ты должна присутствовать при казни. А потом тебе полагается выпить вина с мышьяком. Так?
Она зашептала «нет, нет» — и вид у нее был такой беспомощный и она была так красива, что я чуть было не отменил все, что задумал. Но встретился взглядом с Оскаром — и вспомнил.
Она — мой враг. Смертельный враг. Теперь, из-за Роджера, больше враг, чем когда-либо. И не успокоится, пока я не издохну. И ничего не изменится. Никто никого не прощает. Иногда делает вид, что прощает, но не прощает.
— Итак, — говорю, — решение. Я тебя, Роджер, в прелюбодеянии не обвиняю. Я же развратник — смешно было бы. Поэтому четвертовать, кастрировать и все такое — не стану. Противно.
У Роджера опять мелькнула надежда на морде. Ну не дурак?
— Я, — говорю, — обвиняю тебя в государственной измене. В организации заговора против короля. Справедливо? И приговариваю к повешению как предателя. Ты ведь поглядишь, Розамунда?
Он ринулся на меня, склонив голову, будто забодать хотел. Моими рогами, что ли? Его перехватили скелеты. И Розамунда упала в обморок.
Не стал я, конечно, устраивать эту грязную суету с настоящей казнью. Я даже не стал его на двор вытаскивать — незачем. Просто пережал ему горло потоком Дара. То на то и вышло.
Правда, подыхал он, кажется, дольше, чем обычно кончаются висельники. Наверное, потому, что веревка шею ломает. Но я остался не в претензии.
Нет, я не наслаждался. Думал, что в этот раз буду, но снова не вышло. Я был удовлетворен — да. Справедливо — да, поэтому правильно. Но — по-прежнему неприятно. Просто интриган, подлец и подонок, грязно подохший, как ему и положено. И все.
Розамунда пронаблюдала. И в истерике не билась. Снова стала ужасно спокойная, даже надменная. Спокойно посмотрела, как ее кобель агонизирует, а потом ее вырвало. Слабая человеческая плоть все дело испортила.
А я приказал гвардейцам отвести ее в приемную — там пол гладкий и места много.
Оскар говорит:
— Может быть, вы, мой дорогой государь, подождете до завтра? Идет уже третий час пополуночи. Конечно, нынче, на исходе лета, светает поздно, но все-таки…
— Князь, — говорю, — я все понимаю. Я даже могу отпустить ваших младших отдыхать. Но сам ждать не могу. Не терплю быть должен, особенно — Тем Самым. А то ведь они могут и сами взять, если подумают, что я выплату задерживаю.
Он не стал спорить, конечно. Только заметил:
— Я думаю, вы можете взять Рейнольда в столицу, не так ли, ваше драгоценное величество? Он не заменит Клода, конечно, он еще молод и не слишком силен… Но он будет безусловно предан вам, добрейший государь. Морис отпустит его. Все понимают — вампир не забывает таких милостей. Он может сопровождать вас вместе с Агнессой. Если, конечно, вам не будет неприятно видеть его после…
Я посмотрел на рыжего вампира — и он кинулся к моим ногам. Я ему улыбнулся через силу и подал руку.
— Возьму, — говорю. — Я люблю детей Сумерек, Князь. Мне не будет неприятно.
— Прекрасно, — ответил Оскар. — Встаньте, Рейнольд. Можете считать, что сегодня ночью вам повезло. Сопровождайте меня в гостиную.
Дал понять, что сам на ритуал смотреть не станет и другим вампирам не позволит. Молодец, правильно.
— Оскар, — говорю, — присмотрите за Питером, пожалуйста. И чтобы никто его душу не отпустил, пока я не вернусь. Мне его душа на этом свете нужна.
Оскар кивнул и сделал Питеру знак следовать за ним. Мой бродяжка попытался было протестовать, но я никаких аргументов не принимал. Приказал уйти.
Питер уже разок покормил собой Тех Самых, думаю. Довольно с него.
Так что в приемной я оказался наедине с Розамундой. Не в счет же скелеты.
Она сидела на резном кресле и смотрела, как я рисую пентаграмму на полу. С занятной смесью презрения, страха и еще чего-то — может, ожидала моей милости. Молчала. А мне и подавно говорить было не о чем. Но промолчать до конца, разумеется, не сумела.
— Дольф, — сказала странным тоном — почти капризным. — Ты не можешь меня убить. Ты должен простить меня.