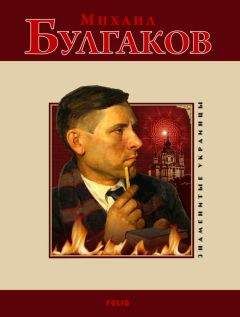— Дольф, — сказала странным тоном — почти капризным. — Ты не можешь меня убить. Ты должен простить меня.
— Почему? — спрашиваю. Через плечо.
— Я же твоя жена, — говорит. — Я королева. Я же королева.
— Я сегодня ночью убил, можно сказать, свою мать, — говорю. — Она тоже была королевой. И что?
Она встала, подошла.
— Не наступи, — говорю. — Знак входа в ад.
Она подобрала подол.
— Дольф, — говорит. — Ты же знаешь, что сам в этом виноват. Ты… Я… я же была так несчастна с тобой… а ты все время надо мной издевался… ты же позволял себе любые мерзости, девок, мальчишек, трупы — а я просто полюбила… мужчину, который меня понимал… только однажды…
— Розамунда, — говорю, — сядь, мешаешь.
И тут мне еще больше помешали. Поскольку дверь стукнула, а гвардейцы не дернулись, я понял, что это Питер явился. Я бросил уголь.
— Я тебе что приказал? — говорю. — Я тебя выдеру.
А он смотрит на пентаграмму — зрачки широченные. И шепчет:
— Господи, вы опять Этих зовете? Я останусь с вами на всякий случай, а?
Я рявкнул:
— Пошел прочь! Не зли меня.
Кивает: «Сейчас, сейчас», но не уходит. По лицу вижу — боится за меня, слишком хорошо представляет эту часть работы. Каким-то образом догадался в прошлый раз, что мне помогает его общество. Я ему улыбнулся, но говорю:
— Нет, иди, мальчик, иди. Я справлюсь.
И тут вдруг прорезалась Розамунда:
— Питер… Ты же Питер, да? Скажи своему королю, что он не должен жестоко поступать со мной. Ты же не ненавидишь женщин, верно?
Питер зыркнул на нее зло, а она продолжила, да так любезно и жалобно:
— Питер, ну что ж ты? Ведь я не сделала тебе ничего плохого, правда? И твоему государю — просто я слабая, я несчастная, я ошиблась… ведь все ошибаются…
Я подобрал свой уголек и стал дорисовывать. Я очень хорошо помню, как думал, что закончу спокойно, пока моя шлюха пытается подлизаться к бродяге, а перед тем как открыть выход, выставлю его вон. Я не торопился. Я знал, что моего лиса ей нипочем не уболтать — он ей не простит.
Но услышал, как Питер ахнул и ругнулся за моей спиной, когда чертил последнюю линию.
Я обернулся. Питер стоял и смотрел на меня — а лицо у него было совершенно потерянное. Потерянное и беспомощное.
— Мальчик, — говорю, — в чем дело?
Он улыбнулся виновато, пробормотал: «Простите, больно что-то» — и завалился на мои руки. А меня ужас прошил насквозь, как громовой удар.
Я его встряхнул, смахнул волосы с его лица — и увидел… я часто видел это. Не ошибиться. Глаза остекленели. Но хуже того — я почувствовал.
Этот теплый толчок. Душа отошла.
Шпилька. Волосы растрепанные, ее коса держалась на одной шпильке. Золотая роза с маленьким бриллиантом — сверху, а снизу — стальное острие. Жарко было в замке — он остался в рубахе, где-то бросил куртку. Сквозь рубаху, под лопатку. Золотая роза — а вокруг пятно крови. Совсем небольшое.
Какой профессиональный удар, подумал я. Как точно. Как странно.
Розамунда смотрела на меня с каким-то веселым удивлением — и вдруг хихикнула.
— Ой, Дольф, — говорит. Удивленно и со смешком. — А это, оказывается, так легко… Вы, мужчины, так это преподносите… А это так легко! Это же даже не нож! Надо же… Я даже и не ожидала, что у меня получится!
Я подумал: он повернулся к ней спиной. И я поворачивался. И никто из нас не обратил внимания на эту шпильку. И для гвардейцев шпилька — не оружие, а королева — не боец. А мой Дар уже в этой пентаграмме — я же не ждал удара в спину… шпилькой… от жены…
Я сконцентрировал Дар на Тех Самых. А Питер… учуял… предвидел… подставился…
Боялся за меня. Почему бы? Что ему в свое время Клод говорил? Что ему Оскар сказал? Что он думал, мой бродяга?
Я его осторожно положил на пол. Вытащил шпильку — длиной пальцев шесть, очень хорошо достала до сердца и отточена отлично. Художественная работа. Я задрал рукав и воткнул шпильку в запястье.
У Розамунды вытянулось лицо. Она не понимала.
Я выдернул эту дрянь из руки и бросил в центр звездочки. Капнул туда же кровью. Он вышел, как по маслу. Какая-то особенная разновидность — с раздвоенным языком и рогами, закрученными в спирали, острыми концами вперед. И дым от него валил, красноватый, воняющий серой сильнее обычного.
И Розамунда заорала.
Демон уставился на меня своими текучими огнями, улыбнулся железным лицом, прошелестел:
— Щедрый подарок, темный государь.
— Не подарок, — говорю. — Взятка. Скажи мне, только что отошедшая душа принадлежит вам?
— Да, — отвечает. — Грешная душа, принадлежит почти с рождения.
— Великолепно, — говорю. — Это взятка за ее свободу. Достаточно?
Ухмыльнулся.
— Темный государь, все во власти Господа…
— Кто же спорит, — говорю. — Но дайте Питеру подняться, а потом пусть уж Высший Судия решает. Высший, не вы.
Кажется, демон огорчился. Но спорить не стал. Только склонил голову. Еще бы.
— Я вам должен, — говорю. — Кровь младенца. Я готов отдать долг. Вам ведь все равно, какого возраста младенец?
Скелеты подтащили Розамунду ко мне — она вопила: «Нет! Нет! Дольф, нет! Я не знала! Я не хотела! Нет!» Тот Самый облизался своим раздвоенным.
— Младенец — внутри? — шелестит.
— Да, — говорю. И внутри меня — расплавленное железо. — Помни — я обещал кровь, а не душу.
Он рассмеялся. Какое было лицо у Розамунды, какие глаза…
— Все знают, — прошелестел, — что у темного государя пунктик насчет душ. Я помню…
Я не смог смотреть. Я знал, как это будет. Я знал, что его полубесплотная рука выдернет из Розамунды… пройдет сквозь ее живое тело, как туман… знал, но все равно не мог взглянуть. И когда услышал ее вопль, уже безумный, и стук тела об пол, еле заставил себя поднять глаза.
— Счет оплачен, — прошелестел демон. Кровь кипела на его железной длани.
— Убирайся, — говорю. — Чем быстрее, тем лучше.
Больше я ему ни капли крови не дал. Просто закрыл выход. Бездумно, механически как-то. И сел на пол, около обугленного пятна.
Сначала Дар жег меня, просто испепелял… Потом улегся… И стало холодно. Ужасно холодно. Они лежали рядом со мной — убитый Питер и Розамунда, умершая, наверное, от невыносимого ужаса. Я тронул их руки. Они уже остывали.
И тут Дар снова поднял приступ ненависти. Отвращения и ненависти.
К себе.
Я сидел рядом с трупами и рыдал от смертной тоски, от пустоты и от неутолимой злобы на себя. Мне казалось, что моя душа, прах побери, моя грешная и больная душа уже в клочья растерзана.
Наверное, я сжег бы себя собственным Даром. Случается, что некроманты сгорают изнутри. Но кроме Дара у меня была корона, корона Междугорья, будь она проклята и трижды проклята. И еще у меня был Оскар, который появился в приемной и немного охладил мой адский жар.