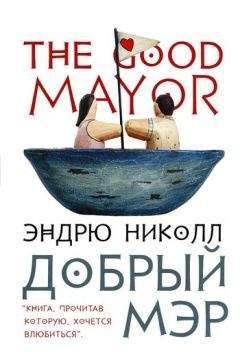Беппо пришел в ярость. У него появилось обыкновение специально приносить на кухню неправильные заказы — лишь для того, чтобы потом возвращать блюда назад и говорить: «Клиенты передумали», или «Они говорят, что минестроне на вкус, как помои. Должно быть, его готовил Луиджи». После этого снова вспыхивала перебранка и начинали биться тарелки.
— Так больше не может продолжаться, — заявил Чезаре. — Наш уютный дом превратился в поле боя.
Но Мария только поцеловала его и сказала:
— Они все-таки братья. Я все улажу.
Но помощи от нее Чезаре не дождался. Она была поглощена разработкой меню, и, когда однажды придумала новый рецепт пиццы, назвала ее «пицца Луиджи».
— А как же я? — спросил Беппо. — Когда ты приготовишь «пиццу Беппо»?
— Приготовлю, непременно приготовлю! — сказала Мария. — Как только раздобуду достаточное количество тухлых помидоров.
Это обошлось «Золотому ангелу» в одну чашку и с полдюжины блюдец.
— Посиди с ними, выпей пива, — предложила Мария. — Если они смогут выпить вместе пару кружек, дела пойдут на лад.
Беппо был не против, даже если ради этого ему пришлось бы пожертвовать своим личным временем, отведенным на выпивку, но Луиджи отказался от предложения наотрез. Каждый вечер после работы, повесив фартук на крючок, он спешил домой, в маленькую квартирку, которую снимал вместе со своим другом, официантом Золтаном. Золтан был бледен, носил густые усы и смотрел на мир из-под длинной темной челки. Они с Луиджи никогда никого к себе не приглашали и сами никуда не ходили.
Чезаре как-то вслух поинтересовался, чем они занимают свободное время.
— Играют в дочки-матери, — фыркнул Беппо, и Мария швырнула чашку в стену над его головой.
Вскоре после этого, выйдя как-то утром в зал, Чезаре увидел, что Золтан сидит рядом с угловым столиком и смотрит пустым взглядом в ведро с мыльной водой.
— Что это с тобой? — спросил Чезаре.
— Я получил письмо от родителей. Они собираются приехать меня навестить.
— И поэтому ты бросил мыть пол? Разве это плохое известие?
Золтан встал и оперся на швабру.
— Родители ненавидят меня. Дело в том, что я написал им, что живу с девушкой. И теперь они приезжают, чтобы познакомиться с ней.
— И ты окажешься в дурацком положении, потому что никакой девушки у тебя нет. Так тебе и надо. Зачем, спрашивается, было лгать родителям?
— Чтобы не говорить им кое-что похуже, — сказал Золтан, окунул швабру в ведро и принялся натирать пол.
— Работай давай, — сказал Чезаре, встал на свой пост рядом с кофейной машиной и притворился, что ничего не понял.
Однако всякая надобность притворяться отпала через несколько минут, когда открылась дверь и в кофейню вошел Луиджи. По правде сказать, он выглядел великолепно, и Чезаре косился на темноглазую красавицу на высоких каблуках, плавной походкой идущую по залу, пока та не приблизилась к стойке и не сказала:
— Меня зовут Луиза, я буду здесь работать.
У Чезаре отвисла челюсть. Он был настолько потрясен, что не смог даже сдвинуться с места, а «Луиза» тем временем прошла на кухню, помахав рукой улыбающемуся Золтану.
Голуби вихрем взлетели с купола собора, услышав истошный вопль Марии. Она выбежала из кухни с наброшенным на голову фартуком, и понеслась по залу, натыкаясь на столы и голося на ходу.
Один лишь Беппо сохранил полное спокойствие.
— Я всегда это знал, — сказал он. — Удивительно, что вы не знали. — Он прошел на кухню и поприветствовал Луизу: — Здравствуй, сестрица! Я тебя люблю.
Теперь давайте уйдем из «Золотого ангела», пройдем известным маршрутом и заглянем в кабинет доброго Тибо Кровича. Мы застанем его в той же позе, что и в первый день знакомства: он лежит на полу и смотрит в щель под дверью, надеясь увидеть кусочек Агаты Стопак.
А потом, увидев, как она проходит мимо двери, посмотрев любящим взглядом на ее маленькие пальчики с накрашенными розовым лаком ногтями, убедившись, что она села за стол и исчезла из поля видимости, мэр Крович приступает к работе.
Этот день начался так же, как и все остальные, — с отряхивания костюма и с вздоха. Потом добрый мэр Крович сел за стол и вздохнул еще раз. Вздохи были для Тибо прогрессом. Теперь он только вздыхал. Он больше не был жертвой беспомощных тихих рыданий. Тибо приспособился — как потерявший одну лапу пес приспосабливается худо-бедно бегать на трех и не забывает опереться о фонарный столб, прежде чем пописать. Внезапные приступы плача его больше не одолевали. Он обнаружил, что ему больше не надо оставлять Агате записки с распоряжениями — он мог обратиться к ней сам, и его голос при этом оставался спокойным и ровным. Он мог даже смотреть ей в лицо — пока она не поднимала на него свои бездонные черные глаза. И все же, подобно трехногому псу, Тибо был калекой. Какая-то часть его души была ампутирована и никак не могла отрасти заново.
Это была слабость. Он корил себя за нее. Он возлагал вину за нее на Агату. Себя же он корил, поскольку, несмотря на все твердые обещания стать счастливым к Новому Году, или полностью прийти в себя ко дню рождения, или позабыть обо всем в сентябре, «потому что в сентябре будет два года, а двух лет более чем достаточно», он по-прежнему продолжал ее любить. И ненавидел себя за это. Смешно, в самом деле: два года оплакивать то, что продолжалось всего несколько месяцев и закончилось через пару часов после того, как он понял, что происходит. Впрочем, говорил он себе, тогда не стоило бы ценить и саму жизнь, ибо она быстротечна. Ребенок, умерший в колыбели, ребенок, рожденный мертвым, — все же ребенок, о нем скорбят и помнят его. А это была все-таки любовь, пусть и продлившаяся так недолго.
Итак, маятник качнулся назад, и теперь Тибо гордился своей верной, крепкой любовью и рассматривал ее как доказательство своего благородства и вероломства Агаты. Это она виновата в том, что он никак не может излечиться, она виновата в том, что он изо дня в день должен выносить пытку ее красотой, ее ароматом, ее глубокими, темными, печальными глазами.
За все эти три года он ни разу не сказал ей о своей боли, ни разу не намекнул, что страдает, ни разу ни в чем не упрекнул ее — и при этом в глубине души понимал, что это ежедневное проявление любви Агата принимает за безразличие. Его ранило, что она не замечает того, что он для нее делает, но тем слаще становилась его жертва. Иногда он, впрочем, замечал, что упивается ее холодностью. Тогда он обхватывал голову руками и бормотал про себя: «Жалкий тип!» Ибо жалок человек, набравшийся мужества молчать о том, о чем три года назад боялся заговорить, пока не стало слишком поздно.