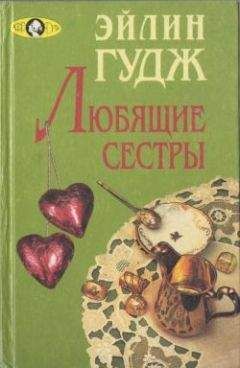Разумеется, я понимала, что большая часть этих рассказов – просто легенды и сказки. Но не могла не заметить, что епископ этот пользовался одинаковым уважением как среди горожан и лавочников, так и среди селян. Так что отношение мое к этому визиту было несколько двойственным.
С одной стороны, лишняя возможность повидать близких мне людей, с другой – некий страх, что, вломившись в мирную и устоявшуюся жизнь графа Паткуля, епископ имеет возможность перевернуть ее своей волею с ног на голову.
***
Все складывалось и так, и не так: Анна была только рада моему визиту и помощи. А вот Иоган изрядно нервничал, понимая, что за запертую жену епископ имеет право спросить с него. Тем не менее стоять граф собирался до конца:
-- Госпожа Ольга, даже святому Иогану, моему покровителю, не удастся уговорить меня снова посадить эту женщину с собой рядом. Я готов принять любое наказание, которое Его преосвященство сочтет необходимым мне назначить. Но никогда больше не разделю с ней ложе.
Вот в таком подвешенном состоянии мы и встретили на крыльце графского дворца епископа Давида Кингсбургского.
Карета, в которой прибыл святой отец, хоть и была достаточно удобной и снабжена печью, но и особой роскошью не отличалась. Ни позолоты на узорах дверец, ни особой роскоши в одежде кучера или конской упряжи. По сути, эта карета даже не отличалась от тех, в которых путешествовала свита епископа.
Все прошло достаточно чинно и спокойно. Безусловно, отец Давид уже был наслышан о не совсем обычных семейных отношениях графа Паткуля, но он вовсе не торопился излить на него свой гнев. Напротив, ласково благословил не только графа, меня и Рольфа, но и всех слуг, вышедших встречать пастыря, и только потом удалился на отдых.
Мне совершенно неожиданно отец Давид понравился. Был он среднего роста, суховатый и подвижный, довольно преклонных лет, но все еще достаточно крепкий. Темно-фиолетовая ряса, перетянутая черным с золотой каймой поясом – знак его чина, была не новой и даже слегка потертой. По тёмно-фиолетовой ткани почти до пояса стекала шелковистая седая борода белоснежного цвета. Волосы епископ стриг коротко и прятал их под маленькую скуфью такого же окраса, как и пояс: черную с золотом.
Лицо у епископа было самое обыкновенное: с морщинами и темными набрякшими веками. Но вот глаза – неожиданно ярко-голубые, с чистыми белками и очень внимательным взглядом. Он не супил седые клокастые брови, показывая собственную значимость, а благословлял людей ласково и как-то очень искренне.
Пока размещали по комнатам свиту святого отца, пока повара на кухне, а лакеи в зале торопливо подготавливали достойный высокого гостя обед, граф Паткуль совершенно молча и безучастно взирал на эту суету из своего кресла. Он так и не ушел в комнату, и даже Рольфу не удалось разговорить его.
Ужин прошел достаточно спокойно: никаких неудобных вопросов отец Давид не задавал, зато весьма ловко вел светскую беседу с графом. И я с удовольствием видела, что к концу трапезы Иоган слегка расслабился. А святой отец между тем повествовал о том, что его величество одобрил какой-то новый арбалет и теперь этой самой штукой собираются вооружить часть войск и личную королевскую охрану. Беседу с удовольствием слушал даже мой собственный муж, тем более что часть слов епископ обращал непосредственно к нему. Весьма разумными мне показались слова святого отца, которым завершил он разговор:
-- Пусть Отец небесный простит нам прегрешения наши. Но если крепок человек в вере, не обернет он оружие свое против брата. А ежели приходит он на нашу землю с мечом, то и ответ должен получить по делам своим.
Гость собирался провести в замке графа Паткуля около десяти дней, прежде чем ехать дальше. С утра он, как почетный гость, будет вести службу в местном храме. Так что спать мы с мужем легли совсем рано: вставать предстояло ни свет ни заря.
Глава 56
В храм Партенбурга мы ездили к каждой заутрене в свите епископа Давида. Все эти дни главный храм города был полон настолько, что желающие послушать пастыря не вмещались. Когда святой отец выходил, его ждали больные, калеки и инвалиды, надеясь получить благословение благословения. А днем во дворец графа без конца прибывали окрестные дворяне, мечтающие исповедаться святому отцу.
Епископ был человеком пожилым, но работал с людьми столько, сколько позволяло здоровье. Немного необычным было то, что ни сам хозяин дома, ни его окружение, в том числе я и Рольф, не старались воспользоваться подвернувшейся возможностью. Нам всем казалось, что это будет слишком опасно для спокойствия семьи.
Однако и отец Давид за свою жизнь, похоже, повидал всякого. Так что однажды, когда мы только вернулись из храма, к нам в дверь постучал секретарь епископа отец Авессалом, крепкий молодой человек, который смотрел на своего патрона с теплом и почтением. Он поклонился нам и сказал:
-- Барон Нордман, епископ просит вас заглянуть к нему для беседы.
Мужа я ждала, немного нервничая: понимала, что это еще не ливень, но точно первая капелька. Хорошо уже то, что начал разбирать ситуацию отец Давид не с прислуги, а с нас. Рольф вернулся примерно через час. Молчаливый, но не слишком встревоженный. На мой вопросительный взгляд ответил:
-- Поговорили… Потом святой отец принял мою исповедь и отпустил. Сейчас твоя очередь, Олюшка. Секретарь тебя за дверью ждет.
Беседа с отцом Давидом далась мне не так легко, как хотелось бы. В какой-то момент я сама попросила его об исповеди: это гарантировало неразглашение беседы. Он понятливо покивал головой, накинул на меня жесткую епитрахиль, открыл лежащую перед ним на столе книгу “Откровения души” и придавил страницы тяжелым золоченым крестом.
-- Грешила ли ты, дочь моя, против заветов Господа?
-- Грешила, отец Давид…
Для меня исповедь всегда была немного формальным обрядом. Нечто вроде разговора с добрым психоаналитиком, который тебя всегда пожалеет. Возможно, это происходило потому, что отец Лукас никогда не пытался насильно влезть в мою память. Поэтому я легко рассказывала ему о мелких прегрешениях и так же легко получала отпущение грехов. В самом деле, велика ли беда, если я чуть-чуть поною, жалуясь на усталость и на собственную лень, которую так трудно превозмогать. Наверное, для нашего отца Лукаса мои исповеди особого интереса не представляли: они ничем не отличались от исповеди любой домохозяйки.
Епископ же, выслушав обычные слова, быстро и четко перевел речь на другое. Спрашивал: не испытываю ли я зависти по отношению к сестре и не испытывала ли я злобу раньше; не вызывает ли поступок сестры гнев в моем сердце; нет ли в душе моей похотливых мыслей о графе. Многое казалось мне диким. Многое, но не всё…
Все же большой опыт духовника сказывался. От отца Давида я вышла с ощущением, что меня вывернули наизнанку и прополоскали. Всплыли вещи, которые я похоронила в таком темном уголке собственной души, и даже не понимала, что там они до сих пор живут: и обида на графа Паткуля за то, что чуть не погубил мое будущее, и злоба на сестру за предательство, и небольшая зарубочка в памяти на любимого мужа, который женился на мне ради денег.