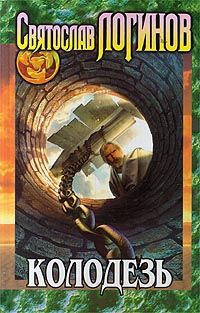— Спят, Света нет, даже собаки не лают.
Семён поднялся наверх, глянул на деревню. Ещё не начало рассветать, и дома казались чёрными грудами на фоне безвидного тёмного неба. Со стороны Юшкова и впрямь не доносилось ни единого звука. Спят? — Семён в сомнении пожевал губами. Может, и спят… хотя всё-таки слишком тихо. Не должно быть такой тишины в деревне, где стали на постой две баталии пехотного полка. А впрочем, всё в руце божьей.
Смертельно хотелось перекреститься — ныне отпущаеши раба твоего! — но Семён не посмел, помня, что за спиной ожидают трое сотников его войска. Спустился вниз, хрипло выдохнул:
— Готовьте коней!
Толком ещё не рассветлелось, когда всадники были готовы к атаке. В деревне по-прежнему было слишком тихо, не засветилось ни одного огня, хотя мужикам, пожалуй, тоже пора подыматься, чтобы с рассветом выйти в поле. Теперь Семён был почти уверен, что их ждут. Надо торопиться, покуда никто из башкир не заподозрил неладное.
Хищным прыжком Семён взлетел в седло, вырвал из ножен знаменитую саблю.
— Дети истины! — злым свистящим шёпотом прокричал он. — Сегодня Аллах отдает в наши руки гяуров. В деревне, что перед вами, спят русские солдаты. Дальше, до самого Итиля, мы не встретим ни единого стрельца. Так прольём на них дождь нашей ярости; и плох будет дождь тех, кто не веровал в Аллаха! Батыры! Вы тот вихрь, что поразил адитов, двойной кутар, распарывающий кишки врага. Сейчас решается судьба Казани. Вперёд, во славу пророка!
Семён первым вырвался из низинки на вспаханное поле. За ним сплошным потоком торопились башкиры. О тишине уже никто не думал, звенели удила, ржали понукаемые кони, но люди покуда молчали. И лишь когда почуявшие простор лошади с ходу взяли в галоп, рассвет прорезал визг всадников и злобное татарское «ура!». С этим криком тумены Бату-хана прошли по русским весям, обещая трёхсотлетний плен. Нет звука страшней для русского уха, недаром сами русичи взялись ходить в бой с этим же криком, пугая врага тенью тюркского всадника.
Вперёд! Там по избам дрыхнут сонные урусы, в стойлах стоит поёный нерезанный скот, там слава и добыча!
Кромсали воздух ждущие крови клинки, полоскалось на встречном ветру зелёное знамя джихада, а в деревне по-прежнему царила тишина. И лишь когда душа ходжи Шамона исполнилась страшного предчувствия, над плетнями, ограничивающими деревенские огороды, разом поднялись зелёные треуголки гренадёров, и грохот пальбы слился в один потрясающий удар.
Первый залп буквально выкосил летящие сотни. Покачнулось и упало зелёное знамя. И всё же лава не остановилась, не завернула вспять; не смолк визг и страшный крик: «Ур-ра!» Неукротимый ходжа Шамон по-прежнему мчался впереди, ничуть не сбавив хода, и батыры рвались следом за ним.
Солдатская цепь не успела перестроиться в каре, когда башкиры докатились и ударили. Грохнуло несколько разрозненных выстрелов — залпа у солдат уже не получилось, — свистнули шашки, взметнулись поспешно вбитые в ружейные дула трехгранные багинеты — началась бессмысленная и кровавая рубка.
И в то самое мгновение, когда, казалось, решается, кому взять верх в свалке, сбоку прозвучал еще один залп, и из ближней рощицы выступила свежая баталия, уже перестроенная и готовая отбить всякий наскок. Путь к отступлению был отрезан.
«Вот и всё… — радостно подумал Семён, крутя лошадь волчком и отмахиваясь индийской саблей от тянущихся штыков, — кончился Ханжа, не бывать больше мерзавцу!»
Всадник в богатом халате и зелёной чалме, гарцующий не на мохноногой низкорослой башкирке, а на смоляной масти дончаке, был виден всем: тянулись к нему и свои, и враги; свои падали убитые, врагов прибывало.
Краем глаза погибающий Семён заметил среди солдат рослую фигуру в немецком кафтане и пышном густо напудренном парике.
Вот он каков, полуполковник барон Мюнхаузен! Понял, умница, записку и достойно встретил киргизцев, ползущих из Сухого Лога… поверил грамотке. Да и как не поверить, если по-своему писано, по-родному… небось в мечтах видит, как представит по начальству победную реляцию, а с ней заодно и связанного ходжу. И то добро, только ходжу ещё взять надо, больше он тебе не помощник; смыл старый грех новым и теперь смерти ищет, а не плена. Сражайся, барон, покуда противник на коне!
Семён взметнул Воронка на дыбы и сквозь щетину штыков рванулся к офицеру. Барон хрипло закричал, выбросив навстречу всаднику руку с зажатой шпагой. Сабля против боевой шпаги — детская игрушка, шпага куда проворней, хороший боец трижды успеет заколоть всадника, покуда тот замахивается, но сейчас конник ударил издали и не по противнику, до которого было не дотянуться, а по его оружию. И кашмирский булат доказал, сколь он превосходнее ганноверской стали. Отвести в сторону прямой удар сабля не может, изгиб сабельный не позволяет фехтовать; не случилось такого и на этот раз: булатный клинок попросту перерубил тонкое лезвие, и немец оказался посреди битвы с голыми руками. Один Аллах знает, успел ли подивиться чужак своей гибели, Семён и на миг не замедлил движения руки, ударил с разворота, ведя саблю снизу на новый замах. И хотя силы в таком ударе немного, а витой парик недаром перед боем надевается, словно на парад, ибо скользкий волос бережёт тело надёжнее стальной кирасы, но ничто не выручило немца — не удержалась длинная голова на том месте, где полагалось ей быть от природы.
На том и кончилась блестящая карьера храброго барона, лишь недавно перешедшего из рейтерских майоров в пехотные полуполковники и получившего под командование один из четырёх полков солдатского строя. А ведь если бы не сабельный удар, достиг бы барон знатных чинов, в старости, вернувшись в родовой замок, тешил бы родных и приятелей небывалыми рассказами о загадочной России…
Семён не успел порадоваться мимолётной победе — сзади пал тяжкий удар, и долгожданная тьма снизошла на измученную душу. Смолкли лязг и визг, ржание взбесившихся коней, грудное хаканье вершащих трудную работу людей. Рудная пелена скрыла мир, не видел Семён, как рванулся к упавшему верный Габитулла, не слыхал третьего залпа и свиста прошедших верхом пуль — солдаты по всадникам палили так, чтобы своих не зацепить ненароком… Ничего не слыхал, ничего не видел… Покойно стало.
* * *
Небо, грязно-бурое и шершавое, качается перед глазами, обещаясь упасть и раздавить. Небывалое небо, сплетённое из гибкой лозы, что на розги идёт, перетянутое тонкими ремнями плетей. В аду такое небо, чтобы и сверху грозило грешнику наказание. Ясное дело — в аду, куда ж ещё деваться сквернавцу окаянному? Люди могут про твой грех и не знать, а господь-то всё видал.