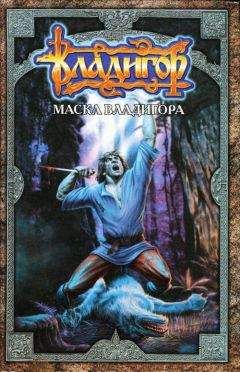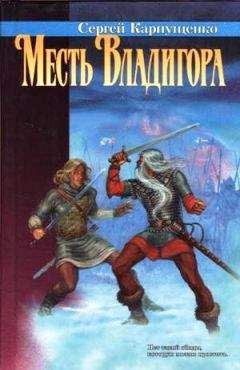— Сам я во всем виноват! — откровенно вдруг признался Владигор. — Говорили мне: «Не езди в Пустень, не вози туда самострел!» Нет, не послушался, погнался за рукой Кудруны, не ведая, что дурманом чародея, а не любовью был я опоен!
Любава строгим голосом прервала речь брата:
— Но ведь она-то тебя любила, больше жизни своей любила! Неужто ее забудешь?
Ничего не ответил Любаве Владигор, только долго-долго посмотрел в глаза ее, надеясь, что все поймет сестра и его простит. Не было сейчас в его сердце иных чувств, кроме любви к отчизне. Помолчав, сказал:
— На вопрос твой я после дам ответ, когда Ладор снова нашим будет. Сегодня ночью, нет, завтра утром пойдем на приступ через ход подземный!
Велигор с большим сомнением промолвил:
— А не попадем ли в капкан борейский? Что если проведали враги о подземном ходе? Нетрудно им, уверен, тогда сообразить, что только там и сможет проникнуть на подворье Владигор, если уж замыслил такое дело. Появление Бадяги для них — вернейшее доказательство твоего желания дворец себе вернуть. Не дурак же Крас, испытал уж я на себе его коварство!
Тут Прободей высказался:
— Послушай, княже, стоит ли так спешить? Не лучше ли воздержаться от приступа прямого? Даже если и не прознали борейцы о ходе тайном, то с полусотней воинов нам их не одолеть. Сам считай: на каждый наш меч по двадцать борейских мечей и самострелов приходится. Пусть каждый наш дружинник вдвое сильнее ихнего, даже, может, втрое, но все равно, когда на тебя зараз два десятка лезет, затылочек почешешь да призадумаешься.
— Верно Прободейка говорит, — кивнул Бадяга. — Что, княже, хочешь голову сложить? Тогда будут борейцы вечно Синегорьем править и Любаву к власти не подпустят. Мой тебе совет таков: коль ты прежнее свое обличье вернул, то кто ж из синегорцев откажется князем тебя признать? Ведь прогоняли урода, а не тебя! Вот и надо тихо-тихо в Ладор пробраться да по домам влиятельных людей походить, поговорить со всеми. Узнав, что ты вернулся, соберутся всем миром подданные твои, дворец обложат, вот и принудим борейцев к сдаче. Тихо, мирно, без крови и без потерь. Чего же лучше?
План Бадяги и в самом деле разумным Владигору показался, так же, как и речи брата и Прободейки. Окончательно склонила его к мысли поддержать Бадягу Любава, которая, вздохнув, сказала:
— Брат, пожалей себя, воинов побереги. Знаю, отчаянный ты, но силы неравны. Давай народ ладорский поднимать.
— Ну будь по-твоему, сестра. — Владигор кивнул. — Завтра попробую пройти через ворота. Если уж поднимать людей, то нужно им всем показать, что князь вернулся настоящий, а не урод…
Уже темнело, поэтому Владигор распорядился, коней укутав потеплее, всем дружинникам идти в землянки и спать до утра, а сам долго еще ходил между сосен, и на душе у него было уныло, точно уговорили его товарищи на дело нехорошее, пустое.
Когда рубился Бадяга в коридоре ладорского дворца, черная большая кошка, та самая, которая перекусила жилу на шее Солодухи, следила за дерущимися из темного угла. Светляками горели два круглых ее глаза, и вздыблена была шерсть на спине ее выгнутой. Когда же с боем стал пробираться Бадяга к лестнице, она, к полу брюхом прижимаясь, двинулась вслед за ним. Стремглав пронеслась вниз по лестнице, и, когда дружинник, не переставая наносить удары, выкатился на подворье и бросился к конюшне, кошка тоже побежала за ним и проскочила в конюшню через ей одной известный лаз. Видела она, как закрывал Бадяга ворота, как бежал к стойлу, поднимал крышку в полу. Едва скрылся он под землей, появились те, кто гнался за ним. Видела кошка, что безуспешными оказались поиски борейцев, злые, усталые побрели они назад, вложив в ножны мечи свои.
А когда над Ладором опустился полог темной ночи, поднялась эта черная кошка по лестнице на деревянный помост, установленный вдоль стен, по которому днем расхаживали дозорные. Знала она, что ночью спят борейцы, уверенные в том, что в это время никто не отважится на штурм. Спят и во дворце, и в сторожевых башнях. Но знала также кошка, что самострелы они с помоста не уносят, оставляют, прислонив к стене рядом с колчанами, полными стрел, — на случай, если тревога вдруг заставит всех на стены выйти, чтобы отразить возможный приступ.
По времени ночному, зимнему только пять стражников, поставленные на помосте, должны были следить за спокойствием внутри подворья и за его пределами — не бродят ли под стенами подозрительные люди, не собирается ли кто проникнуть во дворец. И так далеко друг от друга они стояли, что не видели товарищей своих, поэтому лишь перекликались на всякий случай в темноте: «Поглядывай! Посматривай! Послушивай!»
И где же им было заметить черную кошку, бесшумно поднявшуюся на помост! Воины не видели ее, зато она прекрасно различала во мраке их фигуры, но гораздо сильнее привлекали ее внимание прислоненные к стене самострелы, и вот подкралась она к одному из них. На задние лапы приподнявшись, опершись передними о железное луковище, стала перегрызать острыми зубами тетиву пеньковую. Вмиг перегрызла, и в мочалку превратилась тетива крученая. Вполне довольно было, чтобы самострел негодным стал.
Так, бегая от самострела к самострелу, перегрызала кошка их тетивы. Чуть ли не до самого рассвета трудилась. Если первые две-три сотни одолела она без всякого труда, то потом стала уставать, зубы на пятой сотне уже притупились, на седьмой едва ли не под корень источились, но кошка все грызла и грызла тетивы, а уж потом и когти ее острые в ход пошли.
Не считала она, сколько перегрызла тетив. Знала только, где можно еще найти самострелы. Проскользнула во дворец, когда с теми, что на стене стояли, покончила. В покоях, где борейцы спали, нашлась работа, а когда, измученная, с изломанными зубами и когтями, перегрызала очередную тетиву, ощутила вдруг, как все внутри у нее заклокотало, задвигалось. Кошачьи лапы и туловище увеличиваться стали. Шерсть черная отпадала клочьями, обнажая кожу гладкую, человеческую. Хвост уменьшался, потом и вовсе исчез, но менее зоркими делались ее глаза — способность видеть в темноте постепенно пропадала. Человеческими делались глаза.
Карима с четверенек поднялась. Руками провела по телу — голая она совсем. Рядом храпели спящие борейцы. На цыпочках ступая, одежду мужскую, лежавшую на лавке, взяла в охапку и вышла с нею в сени, где оделась быстро. Выйдя на подворье, нашла быстро конюшню, — темнота не была ей помехой, оставались в ней прежние чутье и зрение кошачьи. Помнила Карима, где то стойло, в котором Бадяга крышку открывал. Ощупью нашла его, загородку отворила — конь услышал, захрапел, заржал тихонько, а уж Карима, встав на корточки, ощупывала пол.