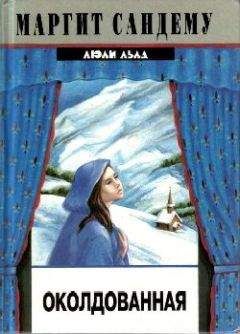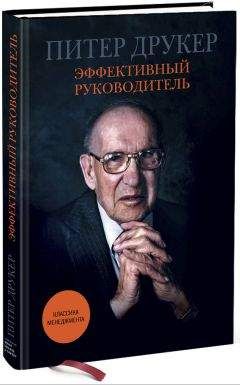Силье почувствовала, как в ней растет упрямство, но она вспомнила слова Хемминга.
— Да, я ошиблась, — сказала она с облегчением. — Я, видно, совсем, забыла то, что произошло ночью.
— Так, наверное, лучше, барышня Силье.
Силье вошла в дом.
Смоляная лучина освещала небольшую комнату, работник разжигал огонь в печи, Силье услышала приветливые голоса, обращавшиеся к маленьким детям. Две пожилые женщины возились с ними, раздевали, кормили девочку горячей пищей.
— Она такая прелестная, — сказала одна из женщин. Как ее зовут?
— Я не знаю, — ответила Силье. — Я называю ее Суль. Но как там грудной ребенок? Я так боялась. Он жив?
— О, да. С ним ничего не случилось, хотя у него не удалена пуповина.
— Значит, это мальчик! Ах, это могло кончиться плохо. Раньше я говорила, что ребенка зовут Лив. Я назвала его так, чтобы спасти от смерти. Здесь пусть он получит другое имя: Даг. Он раньше не хотел есть и…
— Это не имеет значения, он же новорожденный и живет все еще за счет того, что получил с собой при появлении на свет. Мы обмоем его, обрежем, перевяжем пуповину и туго спеленаем. Не беспокойся, мы сделаем все, чтобы ничего дурного с ним не случилось, хотя он и появился на свет таким безбожным образом. Воду для омовения мы благословим пылающими углями. Мы уже положили в его постель сталь. Мы благословим его хлебом, он получит взаймы мое наследственное серебро, чтобы носить на груди. Однако, маленькая девочка выглядит уставшей, мы хотим отнести ее к нам и положить спать. Вот немного супа, хочешь?
Силье не возражала. Девочка, которую она назвала Суль, забралась в постель и сразу уснула. Тепло очага создавало в комнате ощущение уюта, которого Силье была лишена уже давно. Она взяла миску с супом и выпила его, у нее не было времени есть его ложкой. Это была жидкая похлебка с маленькими кусочками свинины, она была очень вкусной. Она почувствовала, как тепло расходится по ее телу.
Прежде чем женщины вышли из комнаты, она упала в постель и заснула. Она чувствовала, что женщины раздели ее и укрыли одеялом, но она была слишком усталой, чтобы открыть глаза. Ее тело, казалось, было налито свинцом. Потом дверь закрылась, и Силье заснула, как мертвая.
Силье заснула перед рассветом. Когда она проснулась, был вечер. Она никогда не видела света этого дня. Или все-таки видела?
Вечер… Скорее, сумерки. Она посмотрела вверх, на низкий потолок. Темные стены из крупных бревен, окно. Подумать только, окно. Силье привыкла к отверстиям в стене, которые открывают и закрывают деревянной палочкой.
Стекло в окне было зеленого цвета, но оно пропускало в комнату последний вечерний свет.
Дети? Она повернула голову. В другой постели девочки не было. Но когда Силье хорошенько прислушалась, то услышала детский смех. Видимо, кто-то играл с девочкой. Еще дальше слышался плач грудного ребенка. Затем там стало тихо. Может быть, ребенку дали еду? В комнате было очень тепло. В очаге еще горел огонь. Значит, кто-то… Силье почувствовала, как краска залила ее лицо. В голове стало проясняться. Она была один раз разбужена. Она проснулась и потянула к себе шкуру, которой ее накрыли.
— Так, так, — произнес голос. — Не бойся, девочка. Мы старые люди, соки юности давно нас покинули.
Она испуганно открыла глаза. Два пожилых человека стояли, склонившись над ней. Силье с облегчением заметила, что на ней была какая-то одежда.
— Это — приходский и цирюльник, — сказал высокий мужчина с седой козлиной бородкой и длинными редкими седыми волосами. На нем был броский наряд ярких тонов. — Он хорошо разбирается в медицине, а я Бенедикт, художник.
Он произнес эти слова так, что она почувствовала необходимость встать и поклониться. Цирюльник, который также ухаживал за больными, был маленький круглый человек с приветливыми глазами.
— Как давно у тебя такие ноги, девочка? — спросил он.
— С самого рождения, я полагаю, — громко захохотал Бенедикт.
Силье, не снимавшая с себя башмаков несколько недель, подняла голову и с ужасом посмотрела на свои ступни. Она их не узнавала, так они отекли, покрылись водяными пузырями и кровоподтеками. Они были очень грязные, но это было легко поправимо. Хуже было с кожей.
— Мы сделаем теплые компрессы, — успокаивал цирюльник. — Я не буду ставить тебе банки, потому что у тебя сейчас явно не так много крови. Твои кисти не намного лучше, чем ступни, но я видел обморожения и похуже, так что у тебя все заживет. У меня лучшие рекомендации от высокопоставленных особ, например, от барона…
И он скороговоркой выпалил целую тираду с прекрасными именами, чтобы произвести впечатление. Бенедикт помахал рукой, словно для того, чтобы развеять все это бахвальство. Потом он уселся на край постели. Силье быстро натянула на себя шкуру.
— Теперь послушай меня, — сказал он отеческим тоном. — Что ты за птица? Я узнал, что ты спасла двух детей и немыслимого Хемминга и что ты заслуживаешь хорошей заботы. Однако твое платье свидетельствует об ужасной бедности.
— Оно не мое, — тихо сказала Силье. — Свою одежду я отдала той, которая в ней больше нуждалась. Старой женщине, которая осталась в усадьбе. На ней была лишь тонкая рубашка.
— А это? — спросил он, приподняв двумя пальцами меховые лохмотья. Затем он быстро выпустил их.
— Я сделала это из вещей, которые нашла в амбаре.
Художник безнадежно покачал головой.
— Никогда не слышал ничего подобного! Отдать единственное платье, которое у тебя было! Впрочем, у тебя красивая речь! Кто ты, собственно?
Силье смутилась.
— Ничего особенного. Неисправимое дитя кузнеца, Силье Арнгримсдаттер. Мне пришлось покинуть усадьбу после того, как все мои родственники умерли. Моя грамотная речь объясняется другими причинами.
— Я утверждаю, что ты необыкновенная девушка, — сказал художник с живыми, приветливыми глазами. — У тебя доброе сердце, а это редкость в такое волчье время, когда каждый думает, в основном, о себе. И то, что ты находишься под таким покровительством, тоже что-то означает.
Цирюльник все это время занимался ее ногами, он варил в миске что-то, издававшее терпкий запах. Силье хотела спросить у Бенедикта, что он имел в виду, говоря о «таком покровительстве», но по опыту она знала, что из этого ничего не выйдет. Они могли бы назвать молодого Хемминга, но о том, кто стоял за… Ни слова.
— Ты сама называешь себя неисправимой. Расскажи мне о твоей жизни в усадьбе. О том, чем ты там занималась.
Она смотрела в сторону, смущенно улыбаясь.
— Боюсь, что я ввела вас в заблуждение. Конечно, я выполняла ту работу, которую меня заставляли делать — в поле, в большом доме, но я была еще маленькая… Что еще сказать? Я часто мечтала. И тратила массу времени, чтобы что-то украсить.