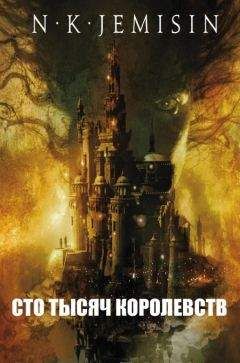Ты вспоминаешь.
***В тот миг, когда красновато-алый солнечный изгиб потонул за узкой полосой горизонта, комната ощутимо дрогнула, а с нею затрясло и весь дворец. Столь сильно, что у меня даже непроизвольно заклацали зубы. Волны за спиной проносились одна за другой, казалось, стремясь наружу, вон из комнаты; и когда наконец сошли на нет, тьма в комнате сгустилась. Я терпеливо ждала, заговорив, лишь когда волоски на загривке встали дыбом.
— Доброго вечера, лорд Ньяхдох. Вам уже лучше?
Единственное, что пришло в ответ, — низкий, перекатывающийся полувыдох-полухрип. Вечернее небо по-прежнему нависало, испещрённое разномастными полосами солнечного света — ржаво-золотистыми, и багрово-рдяными, и лилейно-фиолетовыми, — мерцающими столь насыщенно, ровно сколы драгоценных камней. Падший всё ещё был не в себе.
Я обернулась. Он ссутулился на кровати. По сию пору обретаясь в невзрачной, человеческой личине; одни только волосы, извиваясь, кружились и реяли вкруг падшего, хотя в комнате господствовало безветрие. Стоило мне осторожно всмотреться в это тёмное мельтешение, и оно как по мановению ока сгустилось, расползлось, всё больше и больше подёрнулось сумраком, — спрядаясь, сплетаясь ночным покровом. Плащом тьмы. Чарующим, и потрясающим в своём великолепии. Падший отворотил лицо от тягучих, медлительных разноцветных лучей и оттого пропустил мгновение, покуда я придвигалась поближе, — пока не застыла у него перед носом. Тогда он и поднял взгляд, отгородясь рукой, словно щитом. От меня? Удивлённо вскинув брови, я улыбнулась.
И весь этот долгий мой взгляд руку его сотрясала крупная дрожь. Я взялась за ладонь, убеждаясь, сколь суха холодная прежде кожа. (Только сейчас я заметила, что та была коричневой. Моя работа?) Прикрытые рукой, виднелись глаза, уставясь прямиком на меня, ныне — два сгустка тьмы, немигающие и безмолвные. Бездумные, как у зверя.
Обхватив его за подбородок, всей своей волей повелела ему вернуться к себе, из безумия — к здравому уму. Недоумённо заморгав ресницами, он слегка нахмурился, а после глянул на меня прояснившимися, словно путаница в его голове улеглась, глазаии. Напрягшаяся в руке ладонь стала прежней, прохладной.
Как только я убедилась, что всё в порядке, то высвободила его пальцы. Расстегнув ворот блузы, сдёрнула с плеч, сбрасывая комком на пол. Расщёлкнув застёжками юбки, стянула, вместе с бельём, и смахнула туда же, вниз. Нагая, я ждала, предлагая, нет, принося в жертву всё, что у меня оставалось.
И тогда… тогда…
Ты помнишь.
Нет. Нет, я не могу, никогда.
Отчего ты боишься?
Я не знаю.
Он причинил тебе боль?
Я не помню!
Так сделай это. Думай, дитя. Ты сильнее этого, я создала тебя такой. Звуки? Ароматы? Каковы они на вкус? Как ты их ощущаешь? Чему подобны воспоминания?
Как… словно лето.
Да, верно. Вот они — душные, парящие, влажные от росы и перегноя, долгие летние ночи. Знаешь ли ты… Земля поглощает всё дневное тепло — и возвращает назад, сумрачными ночными часами. Всю ту энергию, что попросту парит, пропитывая воздух, ожидая, чтобы пригодиться. Пятнами взвеси оседая на коже. Открой рот и она совьётся на языке.
Я помню. О боги, я вспомнила.
Я так и знала. Знала, что ты вспомнишь.
***Тени по углам, казалось, сгустились ещё сильнее, когда Ньяхдох поднялся с кровати. Он навис надо мной тёмным пятном, и в этой клубящейся завеси, в этой темени я поначалу не могла различить даже его глаз.
— Зачем? — спросил он.
— Я так и не дождалась ответа.
— Ответа?
— Сможешь ли ты убить меня? Убьёшь, или нет, если я попрошу?
Что толку притворяться, что колени мои не подрагивали от страха? Что тот не копошился — в колотящемся до одури сердце, в сбившемся, учащённом дыхании? Эссуй, сладостное предчувствие угрозы; эссуй, предкушающий трепет каждой клеточки тела. Но потом он потянулся, медленно, неторопливо (так что тысячи возможных картин промелькнули, терзая меня, в воспалённом воображении), — и кончики пальцев цепко ухватились за мою руку, притягивая ближе. Одно лишь касание, и весь страх мой обратился нечто иным. Другим. Боги… Богиня.
Ослепительная вспышка белизны вспугнула вязкую черноту. Устрашающий оскал белоснежных резцов. О да, жест, бывший далеко за гранью того, что именуют угрозой.
— Верно, — сказал он. — Попроси вы, и я убью вас.
— Вот так просто?
— Не имея власти над собственной жизнью, вы, на худой конец, стремитесь удержать хотя бы право выбора на смерть. Мне… знакомо это. — Столь много недосказанной сути крылось за сплетением тщательно подобранных слов. И за последующей паузой. Меня вдруг как осенило: Владыка Ночи… а не жаждал ли он сам смерти?
— Не думаю, что в ваших планах рассчитывать на мою добрую волю и право выбора. Тем паче насчёт как, когда и зачем мне умирать.
— Верно, маленькая сладкая пешка. — Я кое-как пыталась сосредоточиться на его словах, покуда рука падшего мягко продолжала странствовать вдоль кожи. Немилосердный, а главное, бесполезный труд — с моей стороны. Я была лишь человеком. Смертной. — Это в порядках Итемпаса брать силой, подчиняя, всластвуя и навязывая свою волю другим. Я же обыкновенно предпочитал добровольные жертвы.
Теперь кончик пальца скользил по ключице, вырисовывая странные узоры. Я едва не отшатнулась прочь, чуть не теряя остатки разума от невыносимого блаженства. Прочь — но не от зрелища хищно обнажившихся резцов. В одиночку никому не сбежать от охотящего зверя.
— Я… я знала, что вы собирались ответить согласием. — Голос податливо дрогнул, срываясь невразумительным лепетом. Я путалась в словах. — Не знаю как, но — знала… знала… — Что была для тебя нечто большим, чем простая пешка. Но последнее — шёпотом, про себя, не смея… не дерзая облечь словом.
— Мой долг — быть тем, что я есть, — произнёс он так, как если бы слова теперь имели смысл. — Ныне. Вы просите?
Я облизнула губы, алчущие, жадные, жаждущие.
— Нет, не смерти. Но… вас. Да, я спрашиваю вас. Прошу вас. Самого — и всего.
— И просьба эта значит — смерть. Смерть — иметь меня. — Последнее предупреждение, в то время, как тыльная сторона ладони, поглаживая, скользила по абрису груди. Пальцы стиснули вставший торчком тугой сосок, — а я, беспомощная, лишь со стоном хватала ртом воздух. Крылья тьмы, обнимающие комнату, дрогнули, смыкаясь, смежаясь, — темнее чёрного.