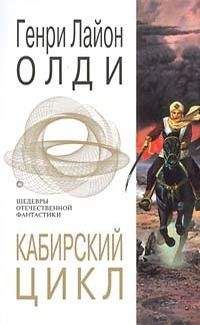Хватило на весь небосклон.
Напротив лавки сокольника, за витой решеткой, начинался Шпреккольский сад. Осень бродила меж деревьями, крася листву с вдохновением пьяного маляра. Багрянец кленов. Золото ясеней и каштанов. Пурпур дикого винограда. Желтизна лип и акаций. Апельсиновый оттенок рододендронов. Кровь дуба. Кровь бересклета. Бордо гортензий и кизила.
Кое-где – зелень, чтоб не забыли.
«С ума сойти, как красиво», – думал Кристиан, выскочив из лавки. Даже рука в лубке не могла испортить парню настроение. Что рука? – до свадьбы заживет. Лекарь сказал: моргнуть не успеешь, будешь девок лапать. Язычок у лекаря…
Дидель отослал Непоседу к меднику, за партией бубенцов. Сокольник брал бубенцы у одного и того же медника, хотя конкуренты предлагали скидку. Смешные люди, объяснял Дидель. Деньги – что? Деньги – прах. Мастерство – все. И показывал знаки на бубенцах: солнце, сердце, колесо с тремя хвостами.
Кристиан ничего не понимал, но кивал со значением.
Деньги – прах, запоминал он.
Жизнь удалась. Эта мысль не покидала его с того дня, как сумасшедшая джинниха и гарпия извели на кухне весь запас смородинового листа, попивая чаёк, а Герда очнулась и тоже попросила пить, заявив Непоседе, что он – дурак, на лбу колпак, и бабушка, вернувшись, не стала причитать, а сказала, что теперь все будет хорошо…
– Эй, кузарек!
Сперва он не сообразил, кто его зовет. Но когда из-за липы, растущей вне решетки сада, выступил Прохиндей Мориц, стало ясно: все будет хорошо, да не очень.
Выглядел Мориц ужасно. Под глазами – черные круги. Голова давно не мыта. Волосы слиплись, висят сальными прядями. Губы потрескались, блестит запекшаяся кровь. Прохиндей кренился набок – такие колченоги должны ходить с тростью.
Этот ходил с ножом.
Нож жил отдельно от хозяина, воняющего гнильцой. Нож приплясывал, рыбкой мелькая в пальцах. Нож изгибался, ловя на лезвие солнечных зайчиков. Ножу хотелось пить.
– Греби к дядику, шныбзда. Потолковать надо…
Идея сбежать вспыхнула и погасла. Кристиан и в лучшие-то времена Морица удрал бы от него, как от стоячего. А сейчас – и подавно. Но сердце подсказывало: сбеги, приятель, и покоя не найти. От врага, желающего отомстить за позор, можно бегать хоть сто лет подряд. А от себя куда сбежишь? К Нижней Маме?
Жалея, что сам без ножа, Кристиан вразвалочку двинулся к Морицу. Он тянул время. Глаза шныряли по сторонам. Палка? Камень? Снять пояс? Пожалуй, хотя пряжка – легонькая. Лучше, чем ничего…
Нож ждал.
Он никуда не спешил, кусок острой стали. Не сегодня, значит, завтра. Хорошая погодка, а? Славно убивать в ясный день. И умирать – славно. Лечь на мостовую, зажмуриться, свернуться калачиком. Ложись, Непоседа. Липа уронит на тебя желтую слезу. А Мориц плюнет да пойдет в таверну: выпить за упокой.
– Здравствуй, Мориц.
Споткнувшись, Кристиан обернулся. Поэтому он не увидел, как изменилось лицо Прохиндея, как сбился с такта нож в дрогнувшей руке. И хорошо, что не увидел. Иначе стало бы стыдно за былого кузаря – злой, голодный барбос пятился назад, поджав хвост.
– Давно не виделись. Ты сильно изменился…
У лавки стоял великан Дидель с Тихоней на руке. Кречет вцепился когтями в кожаную перчатку, кося на Прохиндея недобрым глазом. Клобучка на голове Тихони не было. Страшный клюв открылся, из глотки несся раздраженный клекот. Хлопнули крылья, подняв ветер.
– Здорово, Дид, – хрипло ответил Мориц.
Кристиан переводил взгляд с сокольника на бандита, и обратно. Сегодня он повзрослел, сам не заметив того. К ножу шел подросток, готовый умереть, но не потерять лицо. На полпути между ножом и кречетом остановился завтрашний мужчина, выяснивший, что в событиях, как и в домах, главное – не фасад, а укрытое за стенами. Глупо лезть в чужое жилище, выволакивать секреты на свет. Достаточно знать: главное – невидимо.
И принимать тайну, не пытаясь ощупать, взвесить и измерить.
Многое происходит без тебя. Вне тебя. За твоей спиной. Ты видишь отблески, слышишь эхо, чуешь исчезающий запах. Ну и что? Прими и не спорь.
– Ты был славным мальчуганом, Мориц. Кучерявый ангелок. А вырос из тебя сукин сын. Сейчас я говорю с тобой, как с человеком. С мерзким, отвратительным, но человеком. Слушай и мотай на ус, прежде чем убраться.
– А если не уберусь?
– Тогда ты перестанешь быть для меня человеком.
– Да? – из речи Прохиндея исчезла воровская «кафка». – И кем стану?
– Добычей. Добычей для охотника. Спокойно, Тихоня! Он – сукин сын, но не дурень. Он в курсе, что мы делаем с добычей…
Откуда сокольник знал Морица, оставалось загадкой. Кристиан не желал добраться до ответа. Он не спросит Диделя, если останется жить. Зачем? Захочет, сам расскажет. Не захочет – отмолчится. Давняя история, скучная или увлекательная, не отменит факта: кречет заслонил тебя от ножа.
Ну и хватит.
– Еще встретимся, кузарек. Без видоков…
Глядя вслед Морицу, Кристиан улыбался. Они не встретятся. Это Прохиндей боится потерять лицо. Он, вчерашний наставник – слюнтяй, мальчишка. Расскажет дружкам, что раздумал марать руки о сопляка, или соврет, или уберется прочь из города. Не орел – вошь на аркане.
Морица было жаль. Так жаль осени, когда она идет не в золоте и пурпуре, а в свинцовых дождях и распутице. Чавкают колеса, ругаются прохожие. Небо сеет мерзость. А в домах горят камины, и вино закипает в котелке, булькая горстью пряностей.
– Чего стоишь? – спросил Дидель. – Иди за бубенцами.
– Ага, – кивнул Кристиан.
– Он тебя больше не тронет. Ты мне веришь?
– Верю, – тихо ответил Кристиан.
По дороге он размышлял, каково быть добычей для Диделя и Тихони. И пришел к неутешительным выводам. Подмастерьем быть куда лучше.
* * *
– Красиво, – сказала гарпия. – Напоминает Строфады.
Внизу, под обрывом, гудел прибой. В рокот волн вплетался шорох гальки. Море катало обточенные камешки на тысяче языков, как россыпь леденцов. Водяная пыль клубилась у подножия утеса. В ней безуспешно пыталась спрятаться радуга.
Люди радуги не видели. Но от Келены, устроившейся на ветке, разве спрячешься? Могучий граб бросал вызов обрыву, встав на краю. Дерево нравилось гарпии; радуга – тоже.
Подстелив одеяло, свернутое вчетверо, под грабом устроился Томас Биннори. Поэт хотел усесться на голую землю, но король не позволил. «Простудишься, – со свойственной ему житейской мудростью заявил монарх, – лечи тебя по-новой!..» Спорить Биннори не стал. Сегодня он был на удивление покладист и задумчив.
Глядел в небо, запрокинув голову; молчал.