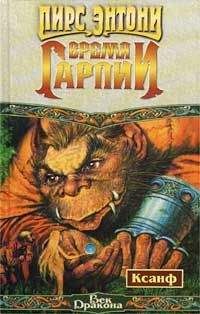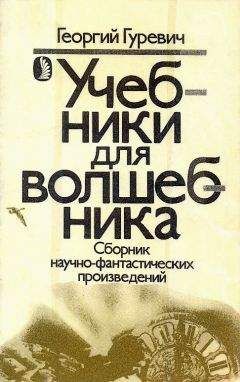силой выбивать пожертвования, если видел, что красноречием ничего не добьется. Оставалось наблюдать и надеяться.
— Я смогу доставить тебя в рай, — благостно улыбнулся Лукреций, — если цепи памяти перестанут удерживать тебя в этом печальном уделе. Откажись от болезненных воспоминаний, передай их мне, и мы свободно полетим.
Мужчина сидел на больничной койке, и ветер трепал отвороты его рубашки.
— Мне нужно обдумать всё это, — сказал он мягко. — Вы можете вернуться за мной позже?
— О, разумеется.
Вскоре лже-ангел улетел, и призрак тихо обратился к цепню.
— Он предлагал мне рай, — вздохнул он. — А что — ты?
— Я предлагаю правду.
* * *
Среди руин Чертогов из костяной почвы пробивался влажный кровавый росток. Он не доходил даже до середины голени, но его мясистые листочки уверенно распускались. Орфин присел рядом и аккуратно коснулся юного растения. Привычно погрузился разумом в его странный птичий мир.
Здесь всегда кружили перья, дул теплый ветер с песчинками, а где-то вдали звучали неинтересные взрослые разговоры. Всего одна камера, никаких мембран и переходов. Это было воспоминание из детства, где Рите лет девять — ее единственная поездка на море. Гуляя по туристической набережной, она наткнулась на дрессировщиков, предлагавших сфотографироваться с крупной крапчатой совой. Когда ее посадили Рите на руку в большой перчатке, птица вдруг разозлилась, начала вырываться и оцарапала девочке щеку. Рита испугалась тогда, но куда больше ее задело внезапное откровение: сова несвободна и вовсе не хочет развлекать незнакомых детишек. Эта обида на животное и за животное одновременно надолго засела в сердце.
Воспоминание было настоящим ночным кошмаром, когда Орфин впервые заглянул в него. Или может быть, это именно воспоминание о кошмаре, а не о реальной встрече. Впрочем, уже неважно.
Орфин долго пытался сгладить углы и убедить ребенка, обитавшего здесь, взглянуть на ситуацию иначе, оставить за спиной обиду и страх. Это было втройне сложно, ведь Рита не помнила его, а выглядел он как черт и само воплощение детских кошмаров — паучьи глаза, обугленные руки, рубцы и шрамы.
— Почему она не летает, Рита? — спросил он однажды.
— Ее не пускают, — насупленно ответила девочка.
— Кто не пускает?
— Взрослые.
— Но почему? Зачем им ее держать?
Рита задумалась.
— Потому что у совы острые когти и клюв, и она хищная и злая. Она не любит людей. Они… боятся ее, — закончила она с удивлением.
— Вот как. А ты боишься?
— Я… — она придирчиво посмотрела на бьющуюся на привязи сову и на облако перьев, разлетающееся вокруг нее. — Не так уж. Они должны отпустить ее. Потому что, ну, если она злая — это ее дело.
— Ясно. А я считаюсь взрослым? Что, если я отпущу ее?
Рита посмотрела на него со снисходительной усмешкой.
— Ты же даже не человек! Какой из тебя взрослый!
По правде, даже тогда внутри кошмара, непосредственность общения с ней была чем-то феноменальным. Горьковатой отдушиной после затяжной работы с призраками и пленниками древ — с их заспинными мешками комплексов и упущенных выборов.
— Ладно, но если я всё же отпущу птицу — не боишься, что она бросится на тебя?
Рита нахмурилась.
— Она точно бросится.
— Так что же делать? Ты хочешь, чтоб она была свободна, но как избежать ее когтей? Может, подружиться с ней?
Она закатила глаза.
— Да не нужны ей друзья. Знаешь что? Я лучше тоже отращу когти! И тогда мы с ней сразимся!
— Но ведь…
— Это будет честно! — с возрастающим энтузиазмом воскликнула Рита, хотя в тот момент захотелось назвать ее «Тис». Или ей вовсе нужно новое имя?
Так она преодолела начальный кошмар, и цветок — ее физическое воплощение — начал расти. В нем появлялись мембраны и комнаты, где детская душа резвилась, сталкиваясь то с кошмарами, то с мечтами. Орфин заглядывал к ней, заводил чудны́е беседы или просто наблюдал. Их дружба казалась хрупкой, а память и сознание девочки — непостоянными. Иногда она приглашала его в игру, а в другие дни пугалась и пряталась.
Проклюнется ли когда-нибудь в этом одичалом ребенке та женщина, которую он помнил? Обретёт ли она снова те ценности, принципы и привязанности, которые отличали Риту от Тис? Он не знал.
И вполне возможно, он растил монстра. Но эта маленькая гарпия была живой, непосредственной и игривой. Она менялась и развивалась, как и положено детенышу, — и пожалуй, Орфин любил ее.