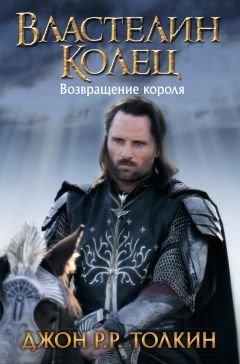Мерри поклонился и уныло побрел прочь, оглядывая ряды воинов. Все уже стояли наготове: потуже затягивали пояса, проверяли подпруги, ласкали коней; иные тревожно косились на почернелое небо. Кто-то незаметно подошел к хоббиту и шепнул ему на ухо:
– У нас говорят: «Упорному и стена не препона», я это на себе проверил. – Мерри поднял глаза и увидел юношу, которого заметил поутру. – А ты, по лицу видно, хочешь ехать вслед за государем.
– Да, хочу, – подтвердил Мерри.
– Вот и поедешь со мной, – сказал конник. – Я посажу тебя впереди, укрою плащом – а там отъедем подальше, и еще стемнеет. Ты упорен – так будь же по-твоему. Ни с кем больше не говори, поехали!
– Очень, очень тебе благодарен! – пролепетал Мерри. – Благодарю тебя, господин… прости, не знаю твоего имени.
– Не знаешь? – тихо сказал конник. – Что ж, называй меня Дернхельмом.
Так и случилось, что, когда конунг выехал в поход, впереди ратника Дернхельма на большом сером скакуне Вихроноге сидел хоббит Мериадок, и коня он не тяготил, потому что Дернхельм был легкий седок, хотя сложен крепко и ловок на диво.
Они углублялись во тьму. Заночевали в зарослях ивняка, за двенадцать лиг к востоку от Эдораса, у слияния Снеговой и Онтавы. Потом ехали через Фольд и через Фенмарк, мимо больших дубрав по всхолмьям, осененным черной громадой Галифириэна на гондорский границе, а слева клубились болотные туманы над устьями Онтавы. Тут их настигли вести о войне на севере: одинокие, отчаянные беглецы рассказывали, что с востока вторглись полчища орков, что враги заполонили Ристанийскую степь.
– Вперед! Вперед! – приказал Эомер. – Сворачивать поздно, а онтавские болота защитят нас с фланга. Прибавим ходу. Вперед!
И конунг Теоден покинул Ристанию; войско его мчалось по извилистой нескончаемой дороге, и справа возникали вершины: Кэленхад, Мин-Риммон, Эрелас, Нардол. Но маяки на них не горели. Угрюмый край объяла страшная тишь; впереди сгущалась темнота, и надежда угасала в сердцах.
Глава IV
Нашествие на Гондор
Пина разбудил Гэндальф. Теплились зажженные свечи, окна застила тусклая муть, и было душно, как перед грозой, – вот-вот громыхнет.
– Сколько времени-то? – зевая, спросил Пин.
– Третий час, – отвечал Гэндальф. – Пора вставать, теперь твое дело служивое. Градоправитель вызывает тебя – верно, распорядиться хочет.
– И завтраком накормит?
– Нет! Вот твой завтрак, и до полудня больше ничего не жди. Кормить будут впроголодь, привыкай.
Пин уныло поглядел на ломоть хлеба и совсем уж какой-то маленький кусочек масла, на чашку с жидким молоком.
– И зачем ты меня сюда привез? – вздохнул он.
– Прекрасно знаешь зачем, – отрезал Гэндальф. – Чтоб ты больше ничего не натворил, а коли здесь тебе не нравится, не взыщи: сам виноват.
Пин прикусил язык.
И вот он уже шагал рядом с Гэндальфом по длинному холодному залу к дверям Башенного чертога. Денэтор сидел так неподвижно, словно затаился в сером сумраке. «Ну, точь-в-точь старый паук, – подумал Пин, – похоже, он и не шелохнулся со вчерашнего». Гэндальфу был подан знак садиться, а Пин остался стоять – его даже взглядом не удостоили. Но вскоре он услышал обращенные к нему слова:
– Ну как, господин Перегрин, надеюсь, вчера ты успел порезвиться и оглядеться? Боюсь только, стол у нас нынче скудный, ты не к такому привык.
Пину показалось, будто, что ни скажи, что ни сделай, об этом немедля узнает Градоправитель, для которого и мысли чужие тоже не тайна. И он промолчал.
– К чему же мне тебя приставить?
– Я думал, государь, об этом ты сам мне скажешь.
– Скажу, когда узнаю, на что ты годен, – обещал Денэтор. – И наверно, узнаю скорее, если ты будешь при мне. Служитель моих покоев отпросился в передовую дружину, и ты его покуда заменишь. Будешь мне прислуживать, будешь моим нарочным, будешь занимать меня беседой между делами войны и совета. Ты петь умеешь?
– Умею, – сказал Пин. – Ну, то есть умею, судя по-нашему. Только ведь наши песенки не годятся для здешних высоких чертогов, и не идут они к нынешним временам, государь. У нас ведь что самое страшное? Ливень да буран. И поем-то мы обычно о чем-нибудь смешном, песни у нас застольные.
– А почему ж ты думаешь, что такие ваши песни не к месту и не ко времени? Разве нам, обуянным чудовищной Тенью, не отрадно услышать отзвуки веселья с дальней и светлой стороны? Недаром, стало быть, охраняли мы ваши, да и все другие края, не уповая ни на чью благодарность.
Пин очень огорчился. Вот только этого не хватало – распевай перед властителем Минас-Тирита хоббитские куплеты, тем более смешные, в которых уж кто-кто, а он-то знал толк. Но покамест обошлось. Не было ему велено распевать куплеты. Денэтор обратился к Гэндальфу, расспрашивал его про Мустангрим, про тамошние державные дела и про Эомера, племянника конунга. А Пин знай себе дивился: откуда это здешнему государю столько известно про дальние страны – сам-то небось давным-давно не бывал дальше границы.
Наконец Денэтор махнул Пину рукой – иди, мол, пока что не нужен.
– Ступай в оружейную, – сказал он. – И оденься, как подобает башенному стражу. Там все для тебя готово, вчера я распорядился.
И точно, все было готово: Пин облачился в причудливый черно-серебряный наряд. Сыскали ему и кольчугу – наверно, из вороненой стали, а с виду вроде гагатовую; шлем с высоким венцом украшен был по бокам черными крылышками, а посредине – серебряной звездочкой. Поверх кольчуги полагалась черная накидка, на которой серебром было выткано Древо. Прежние его одежды свернули и унесли; серый лориэнский плащ, правда, оставили, однако носить его на службе не велели. И стал он теперь, на чужой взгляд, сущим Эрнил-и-Ферианнатом, невысоклицким князем, как его именовали гондорцы; и было ему очень не по себе. Да и сумрак нагнетал уныние.
Тянулся беспросветный день. От бессолнечного утра до вечера чадные потемки над Гондором еще отяготели, дышалось трудно, теснило грудь. Высоко в небесах ползла на запад огромная тяжкая туча: она пожирала свет, ее гнал ветер войны; а внизу стояло удушье, будто вся долина Андуина ожидала неистовой бури.
В одиннадцатом часу его наконец ненадолго отпустили; Пин вышел из башни и отправился поесть-попить, авось дадут, а заодно встряхнуться – не по нутру ему пришлась нудная дворцовая служба. В столовой он встретил Берегонда – тот как раз вернулся из-за пеленнорских рубежей, от сторожевых башен. Пин позвал его прогуляться к парапету: измаяли его каменные мешки и даже высокие своды цитадели давили нестерпимо. Они уселись рядом возле бойницы, глядевшей на восток, – той самой, где они угощались и беседовали накануне.
Был закатный час, но неоглядная пелена уже простерлась далеко на запад, и, лишь уходя за Море, солнце едва успело пронизать ее прощальными лучами; они-то, на радость Фродо, и озарили у развилки голову поверженного государя. Но на Пеленнорские пажити в тени Миндоллуина не пал ни единый отблеск; там застоялась бурая мгла.
Пину казалось, что сидел он здесь много-много лет назад, в какие-то полузабытые времена, когда был еще хоббитом, беспечным странником, которому все невзгоды нипочем. Нынче он стал маленьким воином, защитником белокаменного града от великой беды, в мрачном и чинном убранстве башенного стража.
В другое время и в другом месте Пин, может, и возгордился бы таким убранством, но сейчас он понимал, что дело его нешуточное, что в жизни его и смерти волен суровый властитель, а гибель висит над головой. Кольчуга обременяла его, шлем сдавливал виски. Накидку он снял и бросил на скамью. Усталыми глазами окинул он темневшие внизу поля, зевнул и горько вздохнул.
– Что, устал за день? – спросил Берегонд.
– Еще бы не устал, – сказал Пин, – с ног падаю от безделья. Час за часом околачивался у дверей своего господина, пока он принимал Гэндальфа, князя Имраиля и прочих важных особ. А ведь я, знаешь ли, Берегонд, совсем не привык прислуживать за столом, щелкая зубами от голода. Хоббиты этому не обучены. Ты, конечно, скажешь, зато, мол, честь какая! Да проку-то что в этой чести? Да если на то пошло, что проку даже есть-пить в этих ползучих потемках! А тебе не темновато? Смотри, не воздух, а какое-то бурое месиво! И часто у вас ветер с востока нагоняет такие туманы?
– Да нет, – сказал Берегонд, – погода тут ни при чем. Это вражьи козни: не иначе как из недр Огненной горы валит этот гнусный чад – он и душу мутит, и рассудок туманит, а Врагу того и надо. Скорее бы Фарамир воротился! Только вот вернется ли он из-за Реки, из тамошней кромешной тьмы?
– Н-да, – сказал Пин. – Гэндальф тоже за него тревожится. Он, по-моему, сильно огорчился, что Фарамира нет в городе. Сам-то он, кстати, куда подевался? Ушел с совета еще до полуденной трапезы, хмурый-прехмурый: видно, ничего доброго не ожидал.
Внезапно оба онемели на полуслове, беспомощно цепенея. Пин съежился, прижав ладони к ушам, Берегонд, который, говоря о Фарамира, стоял у бойницы, там и застыл, всматриваясь в темень глазами, полными ужаса. Пин знал этот надрывный вопль, он слышал его когда-то в Хоббитании, на Болотище; но здесь он звучал куда громче и яростнее, отравляя сердце безысходным отчаянием. Наконец Берегонд с усилием заговорил.