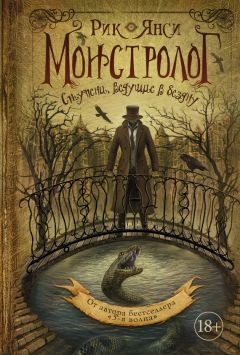– Странно. Мы с ней знакомы с детства, регулярно пишем друг другу, а она мне тоже о тебе ничего не говорила.
– Думаешь, она нас дурачит?
– Сомневаюсь. Просто Лили любит, чтобы в жизни был вызов.
Он шел за мной, пока я тащил ведро и тряпку в Комнату с Замком. Ее можно было найти с закрытыми глазами: вонь разлагающейся плоти усиливалась с каждым шагом.
– Она хорошая девушка, не то что большинство в ее возрасте. Не размазня, кажется. Страстная. Точно, вот самое подходящее для нее определение. Она страстная.
– Да, страсти из нее так и прут.
– Капитальная девушка, не то что эти клуши, мои соотечественницы. Она такая – как это сказать? – раскованная.
Я остановился. Он тоже встал. Если я дам сейчас ручкой швабры по его вздутой челюсти, удар не просто свалит его с ног; он раздробит кость, осколки пропорют щеку, вопьются в десну и, может быть, в язык. Пожизненное уродство – вполне ожидаемый результат, не исключено и заражение крови. А я всегда могу соврать, что на нас напали, или что я ударил его в целях самозащиты. В темном и загадочном мире нашей профессии никто не станет докапываться до истины. Фон Хельрунг сам как-то говорил:
– Когда я был моложе, я часто раздумывал о том, что первично: монстрология ли сгущает темноту в сердцах или людей с темной сердцевиной тянет к ней особенно сильно.
– В чем дело? – прошипел Исааксон.
Я потряс головой и прошептал в ответ:
– Das Ungeheuer.
– Что?
Я повернулся к нему. В полумраке его лицо выглядело гротескным, почти безобразным.
– Знаешь, как он убивает, а, Исааксон? Не укусом, нет; яд просто парализует, разделяет мозг и тело. Сознание остается при тебе. И ты прекрасно понимаешь, что происходит, когда оно распахивает пасть, готовясь заглотить тебя целиком. Ты медленно умираешь от удушья; задыхаешься до смерти, потому что в его кишках нет кислорода. При этом ты продолжаешь жить достаточно долго, чтобы ощутить со всех сторон чудовищное давление, от которого трещат твои кости; ты чувствуешь, как ломается твоя грудная клетка и содержимое твоего желудка устремляется по пищеводу тебе в рот из раздавленного живота; ты давишься собственной блевотиной, а каждый дюйм твоей кожи горит так, словно тебя окунули в чан с кислотой, что, впрочем, в некотором смысле верно. В общем, ты попадаешь в кожаный мешок с кислотой, эдакую антиутробу, где происходит нечто противоположное зачатию.
Сначала он молчал. Потом прошептал:
– Ты сумасшедший.
А я ответил:
– Не знаю, какой смысл ты вкладываешь в это слово. Если ты имеешь в виду безумие как противоположность разума, то тебе придется сначала дать определение последнего. Думаешь, ты на это способен? Думаешь, ты сможешь объяснить мне, что это значит – быть в своем уме? Не верить ни во что, противоречащее реальности? Считать, что наши мысли и поступки не несут на себе отпечатка абсурда? К примеру, мы считаем убийство смертным грехом, а сами убиваем друг друга тысячами. Верим в доброго и справедливого бога и закрываем глаза на страдания многих людей, которые только бог в силах представить. Если таков твой здравый смысл, то мы все безумцы, кроме тех, кто не утверждает, будто понимает разницу. Возможно, ее и не существует, этой разницы, разве что в нашем представлении. Иными словами, Исааксон, безумие – это чисто человеческая болезнь, порождение переразвитого – или, напротив, недоразвитого – мозга, призванное облегчить ему непомерную тяжесть бытия.
Я заставил себя остановиться; грешно получать столько удовольствия, сколько я получал в тот момент.
– Ну, я не знаю, Генри, – сказал он. – Но, по-моему, ты только что подтвердил мои слова.
– Давно ты у сэра Хайрама в подмастерьях, Исаак-сон? – спросил я.
– Девять месяцев. А что?
– Маловато.
– Для чего?
Я пошел дальше. Он окликнул меня, его голос гнался за мной по темным изгибам каменного коридора.
– Генри! Для чего мало?
Лучше железным ведром, думал я. Оно тяжелое. И я представил себе, как восхитительно оно врезается ему в скулу. Ха!
Следом за мной он повернул за угол и едва не споткнулся о тело, распростертое у дверей Комнаты с Замком. И судорожно зашарил по карманам в поисках носового платка. Прижав кусочек крахмальной материи к лицу, он сдерживал позывы рвоты, которые вызывал отвратительный запах, висевший в воздухе, точно ядовитый туман.
– Где у него лицо? – выдавил он, с трудом заставляя себя глядеть на труп: его глаза так и бегали, желание посмотреть сменялось отвращением, я боролось с безымянным не-я, с Das Ungeheuer.
– Лицо? Да здесь, повсюду. Частично у тебя под ногами.
Это была неправда. Но он отшатнулся, не отнимая руки с платком от лица. Я поставил на пол ведро, прислонил к стене швабру и пошел за дверь, к груде ящиков.
– Дай-ка я отгадаю, что именно из темного искусства монстрологии ты успел постичь до сих пор, Исааксон. Последние девять месяцев ты провел в библиотеке родового поместья сэра Хайрама, среди заплесневелых томов, где перелистывал страницы таинственных текстов и изучал туманные трактаты, а к настоящей работе – то есть к лаборатории – тебя и близко не подпускали.
Он торопливо кивнул.
– Откуда ты знаешь?
Я уже перебирал ящики, подыскивая один, подходящего размера. Те, что поменьше, я отшвыривал в сторону; они с грохотом падали на бетонный пол.
– Вот несчастье-то, – сказал я в ответ. – Эти все маловаты, а где взять другой, побольше, ума не приложу. Наверняка есть где-нибудь, этажом ниже, но не шастать же тут за ними всю ночь. – С этими словами я повернулся к нему и подчеркнуто членораздельно произнес: – Придется его подрезать, чтобы влез.
– По… подрезать?
– Инструменты у Адольфа в конторе. Длинный черный чемодан под верстаком у стены, как войдешь, направо.
– Ч…черный ч…чемодан…?
– Сразу под верстаком – у правой стены – лицом к его столу. Ну же, Исааксон, чего ты ждешь? Больше рук – легче труд. А ну, живо!
Я продолжал усмехаться про себя, когда он появился с чемоданом. Платок он повязал на лицо, как бандит. Я знаком велел ему поставить чемодан рядом с телом. Он отошел и прислонился к стене; я слышал, как он тяжело дышит, видел, как с каждым вдохом и выдохом белый клочок ткани у него на лице то надувается, то опадает.
– Ящики недостаточно длинные, зато глубокие, – сказал я, откидывая крышку. Она лязгнула об пол, заставив его подскочить. – Руки мы ему согнем, если он еще не слишком окоченел, конечно. А вот ноги придется подпилить. Положим их сверху.
– Куда – сверху?
– На него.
Я вынул из соответствующего отделения пилу и пальцем попробовал остроту зазубренного лезвия. Острое, как черт. Потом ножницы – я пощелкал ими в воздухе. С каждым щелчком Исааксон моргал.
– Ладно, Исааксон, – сказал я решительно. – Давай снимать с него штаны.
Он не шелохнулся. Его лицо стало того же цвета, что и платок.
– Знаешь, в чем разница между монстрологом и вурдалаком? – спросил я. Он беззвучно затряс головой, выпученными глазами следя за тем, как я отрезаю штанины, обнажая бледные ноги трупа. – Нет? – Я вздохнул. – А я все надеюсь, что когда-нибудь встречу того, кто знает.
Придвигая пятки трупа к его заду так, чтобы колени поднялись кверху, я объяснял, что это будет простая операция по ампутации нижних конечностей до высоты коленного сустава.
– Так, а теперь держи его обеими руками за лодыжки, Исааксон, да крепче держи, чтобы он не качался. Лезвие очень острое, если я порежусь, виноват будешь ты.
Бледная плоть разошлась легко, словно податливые губы, из-за них потекла кровавая слюна; пила, завизжав, вгрызлась в сустав. Не знаю, чего я ожидал, но, когда нога отвалилась и осталась у Исааксона в руках, тот с визгом отшвырнул ее в сторону; с тошнотворным «хлюп» конечность врезалась в стену. Исааксон уже полз на карачках в сторону. Видя, как изогнулась его спина, я подумал: «На свете есть лишь одна вещь, которая пахнет хуже смерти – блевотина».
Я ждал, изучая свои ногти с запекшейся под ними кровью. И почему я не догадался захватить перчатки?
– Знаешь, так дело не пойдет, – сказал я негромко.
– Что? – выдохнул он, вытирая платком рот. Взгляд у него был измученный: интересно, что он теперь будет делать?
– Если бы речь шла о Рохасе, или даже о фон Хельрунге, оно бы еще ничего; старик уже не тот, что прежде. Но околпачивать Пеллинора Уортропа я лично поостерегся бы.
– Что ты плетешь, Генри?
– Не то чтобы его нельзя было околпачить – у него, как и у большинства людей, есть свои слабые стороны – но дело в том, что Пеллинор Уортроп человек необыкновенный; он князь аберрантной психологии, а ты ведь читал Макиавелли, правда?
– Да пошел ты, – сказал он и махнул на меня своим платочком. – Точно, спятил.
– Он вас вычислит, тебя и твоего босса, и что, по-твоему, тогда с вами будет? Ты сам говорил: «Бойцовый пес Уортропа». Ты знаешь, что случилось в Адене. И про Кровавый Остров тоже знаешь.