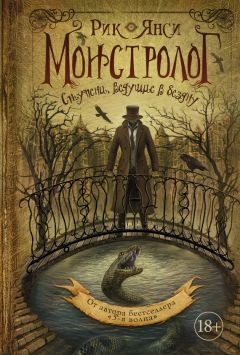– Вы можете его подарить. Есть сотни университетов…
– Нет! – выкрикнул он, ударяя кулаком по полу. – Никогда! Он мой! Он принадлежит мне!
– Вот как? – Я опустился рядом с ним на колени. Он лежал, опустив голову на сложенные руки. Глаза у него были большие и испуганные: так смотрит жертва, прячущаяся от охотника в кустах, или ребенок, которому не спится ночью. – Этот дом – тюрьма, но не для того, кто живет в подвале. Он вас уже проглотил.
– Та самая тварь, Уилл Генри. Та самая тварь! Та, на чей вопрос человек не знает ответа. Та, за которой я охотился много лет, которую ловил – пока она сама не поймала меня в ловушку!
Он схватил меня за запястье. Притянул к себе.
– Ты – тот, кто мне нужен. Ты всегда был тем, кто мне нужен. Ты видишь там, куда я боюсь даже смотреть. Ты – мои глаза в темноте. Так посмотри и скажи мне, что ты видишь.
Я кивнул. Кажется, я его понял. Я был его глазами. Что я видел? Пасть, раскрытую в ожидании. Белых ягнят с мечущимися черными глазками. И Сивиллу, проклятую своим даром. Чего ты хочешь?
Я поднял его с пола бережно, словно ребенка. Его свежевымытая голова прижалась к моему подбородку.
Он поднял руку и нежно коснулся моей щеки.
– Ты всегда был незаменим для меня.
Я поцеловал его сладко пахнущую макушку. Льды Джудекки треснули, сделались легче перышка. Творец дает прощение своей твари, а тварь отпускает грехи творцу.
Прощение существует. Как существует справедливость. И милосердие.
В самом конце и для них находится место.
Я спасу тебя. Я не буду стоять и смотреть, как ты тонешь.
А в конце спуска нас ждет тварь.
Я повернулся в последний раз и зашагал вниз по лестнице.
23 октября 1911
Дорогой Уилл,
Секретарь суда написал отчет, который я беру на себя смелость приложить к этому письму. Как видишь, в нем сказано, что пожар начался «по невыясненным, однако внушающим подозрение причинам». Глубоко сожалею, что не могу предложить тебе иного, более утешительного ответа, не только ради твоего, но также и ради моего собственного спокойствия. Мы с Пеллинором никогда не были особенно близкими друзьями, можно даже сказать, что мы вообще не были друзьями, но я всегда отдавал должное его уникальной натуре; осмелюсь сказать, что мир еще не скоро увидит гения подобного масштаба.
На месте пожара я побывал дважды, второй раз специально для того, чтобы исполнить твою особую просьбу, и с сожалением сообщаю, что ничего такого, что можно сохранить, как память, на пепелище не нашлось. От дома осталась лишь печная труба. Уцелели вещи в сарае и в гараже, в том числе прекрасный старый автомобиль, к которому ты не проявил никакого интереса.
Поминальная служба получилась очень трогательной, несмотря на то, что людей пришло совсем мало. Конечно, было бы гораздо приятнее разделить скорбь прощания с тобой, но я понимаю, что природа твоего бизнеса могла воспрепятствовать твоему личному присутствию на церемонии. Думаю, П. тоже понял бы.
Единственное, о чем я не перестаю сожалеть, – только не подумай, будто я тебя в чем-то обвиняю, – это что ты так и не выбрался навестить его за последний месяц. Нет, вина целиком и полностью моя, ведь ты там. А я все это время был здесь, и теперь совесть будет вечно мучить меня за то, что я не колотил в его дверь до тех пор, пока он не открыл мне. Я так объясняю себе возникновение пожара: старый скряга не заплатил за электричество и вернулся к свечам и керосину, они и наделали беды.
Возможно, когда работы у тебя станет поменьше, ты выкроишь немного времени и приедешь сюда, пройтись по старым местам. Все-таки ты не был у нас уже года два, а то и больше. Твой приезд повеселил бы мое старое сердце, и я лично попросил бы у тебя прощения за то, что не уберег того, кто был тебе так дорог.
Всегда твой,
Роберт Морган
P. S. Если тебя в самом деле не интересует «Лозье», я освобожу тебя от него. Но не бесплатно! За разумную цену.
Вот мои секреты.
Иссохший старик.
Мальчик в потрепанной шапчонке.
И мужчина в запятнанном белом халате, чудовищный охотник за безымянными тварями.
Тот, кто меня благословил, и тот, кто меня проклял.
Тот, кто взрастил меня для того, чтобы я мог его прикончить.
Помни меня, сказал он. Когда все уже было прощено.
Я получил от него наследство. Он был одинок, и все, что имел, завещал мне.
Куда я отправился потом? Куда глаза глядят. Поски-тался по матушке-земле, утешительнице всех безутешных. Уехал из Штатов и оказался в Европе как раз, когда там пробудился монстр, упокоивший в своем огненном чреве тридцать семь миллионов душ. После войны купил домик на южном берегу Франции. Нанял местную девушку, которая готовила мне и стирала. Она была молодая и хорошенькая, возможно, я даже в нее влюбился.
Теплыми летними днями мы с ней ходили гулять по пляжу. Я любил океан. С его берега виден край света.
– Позволь спросить тебя, Эме. Мир круглый или плоский как тарелка?
Она смеялась и брала меня под руку. Думала, что это шутка.
Какое-то время я был счастлив.
Ее отец погиб под Верденом. Возлюбленный – на Сомме. Она повстречала другого и, когда он сделал ей предложение, просила, чтобы я отпустил ее замуж. Я дал согласие, хотя сердце мое было разбито. Когда она ушла, я не стал нанимать другую прислугу. Заколотил дом и вернулся в Штаты.
Сначала я остановился в Нью-Йорке. У меня сохранилась там квартира. Немного писал. Больше пил. Бродил по улицам. На месте сгоревшего оперного театра построили банк. Теперь там совсем другое общество. И другие правила охоты. Монстрология мертва, но все мы как были, так и остались монстрологами, и будем ими всегда. Днем меня часто можно было видеть в парке: одинокий мужчина на скамейке в окружении голубей – привычная картина. Ведь я по-прежнему сидел в стеклянной банке, я не перестал быть пленником янтарного глаза. Ты – моя память, повторял он мне одну бессонную ночь за другой. Так оно и было: я стал бессмертным, мешком, полным льда Джудекки.
Двадцатые годы двадцатого века закончились всеобщим банкротством, и однажды, открыв газету, я прочитал о самоубийстве человека, который прыгнул с Бруклинского моста. Его звали Натаниэль Бейтс. В заметке сообщалось также о месте и времени поминальной службы.
Бывалый охотник и следопыт, я решил, что она не заметит меня, но, когда гроб с телом ее отца опустили в землю, она меня все же увидела – я стоял за деревом. Прошли годы, она была уже не молода, но синева ее бездонных глаз оставалась беспримесно-чистой, как прежде.
– Уильям Джеймс Генри, – сказала она. – Нисколько не изменился.
– Я должен тебе кое-что сказать, – ответил я.
Высокий, широкоплечий мужчина посмотрел на нас от могилы. И нахмурился.
– Это твой муж? – спросил я у Лили.
– Последний. Обещай, что не станешь бить его под дых, потрошить или скармливать какой-нибудь твари.
– О, с этим покончено. Я давно перестал убивать людей.
– Как грустно ты это говоришь.
– Я не чудовище, Лили.
– Нет, ты больше похож на призрак. Пугающий, но бессильный. В чем дело?
– Какое дело?
– О котором ты хотел со мной поговорить.
– Ах, это. Да так. Ничего особенного.
– Помнится, ты еще сорок лет назад хотел поговорить со мной о чем-то – значит, все-таки что-то особенное.
Был чудный весенний день. Безоблачный. Нежаркий. Сикомор в дымке нежно-зеленых листочков. Мужчина у могилы следил за нами хмурым взглядом, но к нам не подходил.
– Как его зовут? Твоего последнего мужа?
Она ответила.
– Джеймс? – переспросил я, думая, что она не назвала его фамилию. – Как философ?
– Нет, Джеймс его второе имя.
– А. Значит, его родители восхищались обоими братьями.
– Какими братьями?
– Его брат писал романы.
– Чей брат?
– Того философа.
Она засмеялась – снова на серебряный поднос посыпались монеты.
– Пойдем куда-нибудь, – предложил я. – Выпьем.
Она перестала смеяться.
– Сейчас?
– Отпразднуем жизнь твоего отца.
– Но я не могу пойти с тобой сейчас.
– Ну, давай попозже. Вечером.
– Не могу.
– Почему нет? Он возражать не будет. – Кивок в сторону хмурого мужчины. – Я безобиден; ты же сама сказала. Безвредный призрак.
Она отвернулась. Ее профиль в тени сикомора был особенно очарователен.
– Не понимаю, зачем ты пришел сюда, – прошептала она, поднимая лицо к небу. Его синева померкла на фоне ее глаз.
– Я хотел тебе кое-что сказать.
– Так почему не говоришь и не уходишь?
Я вытащил из кармана старую фотографию. Увидев ее, она вдруг снова обрадовалась.
– Где ты ее взял?
– Ты сама дала ее мне. Не помнишь?
Она покачала головой.
– Какая я была толстая.
– Всего лишь детская припухлость. Ты тогда сказала – ты помнишь, что ты сказала? – «когда тебе будет одиноко».