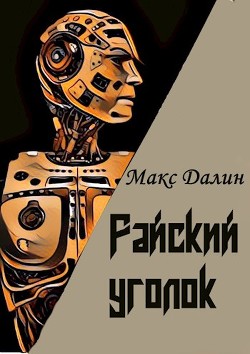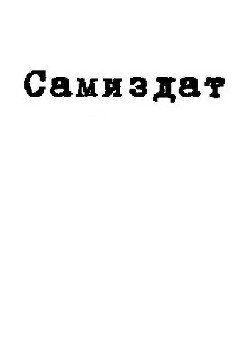не учли, что у мужчин крылья просторнее и мощнее и силы гораздо больше. Молния Яблоню даже от земли не смогла оторвать. Я её поднял, на половину роста примерно – но напрягая все силы и на короткое время. И из всего этого выходило, что даже вдвоём мы её через ущелье не перетащим – вместе разобьёмся. А рисковать у нас никакого права нет.
Яблоня улыбалась, хотела нас утешить:
– Да они и не смотрят, – но когда мы стали тихонько пробираться дальше, эти исчадья нас всё-таки учуяли.
Пчёлка заорала, как ошпаренная кошка, и понеслась куда-то, не разбирая дороги, а Яблоня просто замерла на месте, когда такая тварь – железный богомол в два человеческих роста – повернулась и пошла в нашу сторону. Мы с Молнией переглянулись – и я как закричу:
– Госпожа, беги, беги!
И взлетел. Ещё успел заметить краем глаза, как Яблоня побежала прочь по тропе.
Я подумал, что их надо взбесить и увести. Может, удастся так, что они в пропасть сорвутся и разобьются, может, мы им глаза выцарапаем, но главное – взбесить, чтобы они про Яблоню забыли. И крылья меня слушались, как никогда. Я ни разу раньше так здорово не летал.
Молния сразу на них накинулась – и я вцепился в башку одному. Думал, глаза у них твёрдые, а они оказались не твёрже печёного теста – сразу подались под когтями. Я дёрнул – и почувствовал, что у меня много всякой дряни осталось на когтях. Я и обрадовался: так ему, гаду!
Не слишком-то опытный я солдат, честно говоря. Я остерегался, чтобы он меня кусалкой не ухватил, а про лапы забыл. А он меня лапой достал.
Помню, ветер в ушах свистнул – и я ещё услышал, как шмякнулся об камень и как кость хрустнула. А потом стало больно, жутко больно – и темно.
Темнота рассеялась мало-помалу. Вокруг было смутно как-то, серо – медленно, будто во сне. Я вроде бы сидел в траве – или не в траве, а в чём-то вроде пепла, сером… Ничего толком не рассмотреть, но впереди что-то блестит, тускло, как старое зеркало.
И я понял, что это – река.
Убил меня гад.
Но мне это было вовсе не страшно и не удивительно. Тупо как-то, безразлично. Понятно, что надо встать и идти, будто это приказал кто-то, но вставать не хочется. И ни о чём не думается.
Так я сидел, сидел – время тянул, будто мне тот же голос сказал, что назад пути не будет, если пойду. Не знаю, долго просидел или нет. Показалось, что Молния меня звала, голос откуда-то издали, вроде как с того берега или из-под воды, мол, иди ко мне, бесхвостый, здесь хорошо, вот увидишь – но я так и не пошевелился.
Мне надо было про кого-то вспомнить – и никак не вспоминалось.
И тут по окружающей серости светлый лучик пролетел. Мне послышалось, как собака лает – но я понимал, что никакая это не собака, а Сейад, и что это хорошо. Защищают меня. И рядом из ничего появилось что-то светлое, тёплое – только не рассмотреть, что именно.
«Ты что, – хотел я сказать, – такое?» – но не сказал, потому что не мог рот раскрыть и губами двинуть. А светлое догадалось.
«Я, – отвечает, – Яблоня, – звука в серой хмари нет никакого, но всё понятно. – Одуванчик, – говорит, – милый, очнись. Не надо тебе туда, возвращайся в мир подзвёздный, там – жизнь, тебя там любят…»
Я её узнал сразу, поверил и сделал движение, чтобы встать и пойти за ней. Но тут из-за реки целый хор бестелесных голосов завёл, как песню: «Ты живая, возвращайся к живым, не смущай умирающих. Тут нет страстей, тут нет боли, тут покой – а ты зовёшь его в мир скорбей и потерь. Дай ему отдохнуть, живая женщина – возвращаться ему незачем».
А Яблоня грустно сказала: «Разве тебе незачем возвращаться, Одуванчик?» – и я всё вспомнил окончательно.
«Нет, – говорю. – Мне надо вернуться к тебе, госпожа. Мало ли что с тобой ещё случится – Сейад-то с другого берега лаяла, близнецы теперь тоже там, некому тебя охранять. Ничего, свет души моей, я вот сейчас соберусь с силами и встану».
Те, бестелесные, мне, помню, ещё много чего говорили. Не спеши, мол, говорили, потом родишься здоровым и целым – зачем тебе возвращаться в тело калеки, мало того, что раскромсанного, так ещё и переломанного. Больно будет, говорили, и смысла нет.
Но всё это они врали. Смысл был. Встать было очень тяжело, потому что не очень понятно, как вставать, если тела не видишь – но Яблоня мне как-то помогала, и я в конце концов встал и пошёл.
Спиной чувствовал, как река удаляется. И чем дальше от неё уходили, тем было тяжелее. А потом вдруг стало ужасно больно.
И рука у меня болела, и голова болела, будто в ней в барабаны били, и всё тело так болело, что вздохнуть было трудно. Но я понял, что могу открыть глаза – и увидел настоящий свет.
Солнечный. Высоченные горные небеса.
И Яблоня поцеловала меня в щёку, как Огонька целовала. Она была настоящая, плотная, с заплаканным усталым личиком, вся в солнечной пыли – и я, кажется, даже улыбнулся.
Потом всё равно заснул или впал в забытьё, но хорошо помню: я вышел в мир подзвёздный, когда госпожа моя меня позвала. И ни разу потом не пожалел.
Когда я в следующий раз проснулся, вокруг уже были роскошные покои, а я лежал на широченной постели – впору важной особе. Никогда в жизни я тут не был. В этих покоях оказались Керим, Яблоня с младенчиком и девушка-птица, незнакомая, но лицом похожая на Молнию – и они все так обрадовались, что я глаза открыл. Меня просто в жар бросило, то ли от стыда, то ли от удовольствия.
В жизни со мной никто так не возился. Керим меня поил своим травником, Яблоня говорила всякие милые вещи, – какой я отважный и сильный – а девушка усмехнулась, как Молния, и принесла мне горного мёда с молоком. Мне совершенно не хотелось плакать, но слёзы почему-то сами потекли.
И тут пришёл Ветер. Мой господин – на этом берегу, ага.
Он был совершенно живой, в дорожной одежде, весёлый – и сел на ложе рядом со мной. Надо бы было поклониться – царь к рабу не приходит ни при какой погоде – но нельзя же кланяться лёжа! Я смутился