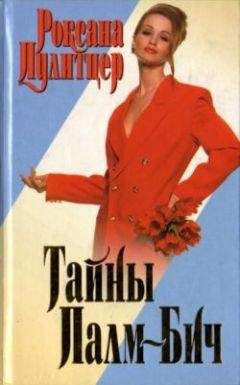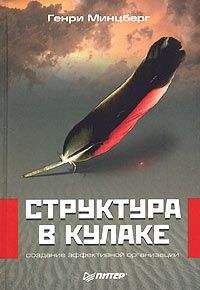— А что они хотели? — спросил Сонго.
Конан метнул в него хмурый взгляд — наивность молодого когирца начинала раздражать.
— Когда мы через речку шли, ты запруду видал?
Сонго кивнул.
— На покойничков обратил внимание?
Сонго опять кивнул, и опять его чуть не стошнило.
— Ну?
Снова озадаченный взгляд.
— Там ни одной девки, ни одной молодой бабы, — ровным голосом напомнил Конан. — Дети есть, а баб нету. А баба для мародера — первостатейное развлечение. Они обыскали дома и не нашли молодиц. Тогда стали пытать самых уважаемых жителей, куда попрятали дочерей и жен. Да только, сдается мне, зря. Крестьянин бандиту все отдаст: коня, хлеб, брагу — все. Кроме жены и дочки. Хоть ты жги его, хоть на кол нанизывай. Этих бедолаг прикончили дня два назад, не меньше, — решил он, еще раз осмотрев трупы. — Надо хорошенько поискать в домах, может, кое-кто из женщин вернулись, да увидали нас и по чердакам попрятались.
Когирцы разошлись по деревне, киммериец вернулся к реке. Когда он обыскивал амбар при мельнице, с противоположной околицы донеслись пронзительные крики. Он выскочил из амбара, ненароком свеся дверь с кожаных петель, и припустил по улице с мечом в руке; из других домов выбегали встревоженные телохранители Зивиллы.
Как выяснилось, Конан угадал — женщины возвратились в село, и коренастому балагуру Паако «посчастливилось» наткнуться на одну из них. В хлипкой лачуге на окраине он обнаружил огромный липовый чан с остатками браги; когда он, сложившись пополам, тянулся ртом к пахучей жидкости, тяжелый кетмень распорол ему правую ягодицу. Воин закричал от боли, но не поддался страху и гневу. Он в один миг обезоружил молодицу и вытащил ее, заходящуюся визгом, за волосы во двор.
Когда туда прибежал Конан, девушку держали двое когирцев, а Сонго хлопотал над пострадавшим. Рана была неглубока, но болезненна, и ее рваные края сулили уродливый шрам. Крестьянка не пыталась вырваться, лишь переводила круглые от ужаса глаза с одного чужеземного воина на другого; когда ее привязывали к плетню, заплакала с тихим щенячьим прискуливаньем.
Паако и еще один воин взялись сторожить пленницу, а остальные вновь разошлись по деревне. Теперь в дома заходили парами и не выпускали из рук оружия. К полудню на околицу согнали одиннадцать женщин, самой старшей было лет сорок, самой младшей не больше четырнадцати. Конан снова побывал на мельнице и набрал мешок муки, рассыпанной бандитами по полу амбара. Когирцы тоже нашли кое-какую снедь, выволокли во двор и злополучный чан с брагой. На костре заварили мучную болтушку, сдобрили ее толченым чесноком, и кунжутным маслом, потом в золе напекли репы. Когда накормили женщин, Сонго предложил их развязать, и Конан после некоторых колебаний согласился. Светловолосый когирец с успокаивающей улыбкой подошел к симпатичной темноглазой селянке и галантно предложил ей свободу в обмен на обещание не убегать. Девушка энергично закивала, подождала, пока он развяжет ей ноги и, улучив момент, метко двинула ногой в пах. Конан усмехнулся и посмотрел на Сонго, будто спрашивал: ну что, не передумал развязывать? А тот, держась за низ живота и закусив губу от боли, отрицательно покачал головой. Подойдя к неблагодарной красотке, Конан рывком поставил ее на ноги и отвесил такой подзатыльник, что девушка рухнула на плетень. Он снова заставил ее подняться и разорвал веревку на руках, нимало не заботясь о том, что причиняет ей боль. Затем, не оглядываясь ни на девушку, ни на Сонго, возвратился к костру, разломил обугленную репу и наполнил рот сладковатой желтой мякотью.
Прожевав, он все-таки оглянулся. Девушка сидела на земле, морщась и потирая висок, Сонго был рядом, на корточках, что-то терпеливо втолковывал, о чем-то пытался расспросить. Когирский воин протянул над огнем деревянную кружку с брагой, Конан поблагодарил кивком, глотнул — кислит, не дозрела еще, ну да не беда. Он покосился на Сонго и селянку. Молодой телохранитель Зивиллы добился своего, девушка отвечала — пока односложно, но было ясно, что она разговорится. Киммериец неторопливо допил брагу, вылил последние капли в огонь, посидел некоторое время в блаженном безмыслии, наслаждаясь тяжестью в желудке и легкостью в голове, встал и подошел к Сонго и девушке.
— Мы идем в Бусару, — произнес он, глядя в зрачки, расширенные страхом. — Мы из армии Токтыгая, свои. — Он знал, что Сонго уже сказал об этом селянке, но счел не лишним повторить. — Нам нужна еда, кое-что из одежды.
Девушка не отводила взгляда, страх на ее лице сменялся презрением. Конан усмехнулся.
— Да, вояки мы никудышные, раздолбали нас в пух и прах. Но мы не мародеры. Мы платим. Вот. — Он бросил ей на подол три монеты с профилем Токтыгая. — Настоящее золото. Это только тебе, остальные тоже внакладе не останутся.
Лицо девушки исказилось. Скрипнули зубы, набухли желваки. Конан удивился — что он такого сказал? Отчего она глядит на него с лютой ненавистью? Три монеты — жалованье пешего наемника за целый месяц, для крестьянки из нищей деревни это целое состояние. Хватит на новую хибару и два десятка овец.
— А еще похороним убитых, — хрипло пообещал он. — Кто из вас захочет, может идти с нами в Бусару.
— Правда, Юйсара, — ласково произнес Сонго и дотронулся до ее руки. — Пойдем. Женщинам тут опасно.
— Бандитов тьма тьмущая, — подтвердил Конан.
— Да. — Девушка криво улыбнулась и зло сверкнула глазами. — Кругом одни бандиты.
— Мы свои, — терпеливо повторил Конан. — Мы возьмем еды, но заплатим. По три золотых на каждую.
— Те тоже были свои, — глухо сказала Юйсара, — и тоже обещали по три золотых.
* * *
Шайка ворвалась в деревню на утренней заре. Пятеро всадников с тяжелыми копьями носились по единственной улице, двое пеших спустились с обрывистого берега к мельнице, еще десятка два воинов в доспехах из кожи и бронзы растянулись цепью вдоль околицы и стрелами и угрожающими криками загоняли перепуганных крестьян обратно в лачуги. Но их ждали. Еще вечером мальчишка-подпасок, сводный брат Юйсары, гнал с пастбища овец и заметил на обрыве вооруженных людей, они сидели в кустарнике и поглядывали на деревню. Они тоже видели встревоженного пастушка, но не пытались его остановить. И с полуночи Юйсары и еще десять женщин прятались в глубокой пещере в двух полетах стрелы к востоку от села, а вход в ту пещеру так зарос колючей дикой сливой, что пробраться в нее можно было только ползком, и хоронились там в самых крайних случаях, потому что там водились змеи, их истребляли время от времени, но они снова наползали, а мальчик сказал, что те люди, на обрыве, на апийцев не похожи, вроде свои, может, дезертиры? Ну, а коли не апийцы, то всем прятаться не резон, рассудили старики, а то шарить начнут по кустам и непременно доберутся до схрона. Вот кабы это были апийцы, тогда всем надо прятаться — у шкуродеров пощады не жди. А свои что сделают? Ну, покуражатся, цапнут, что под руку подвернется, да уйдут восвояси. Надо только девок да баб молодых убрать от греха подальше.