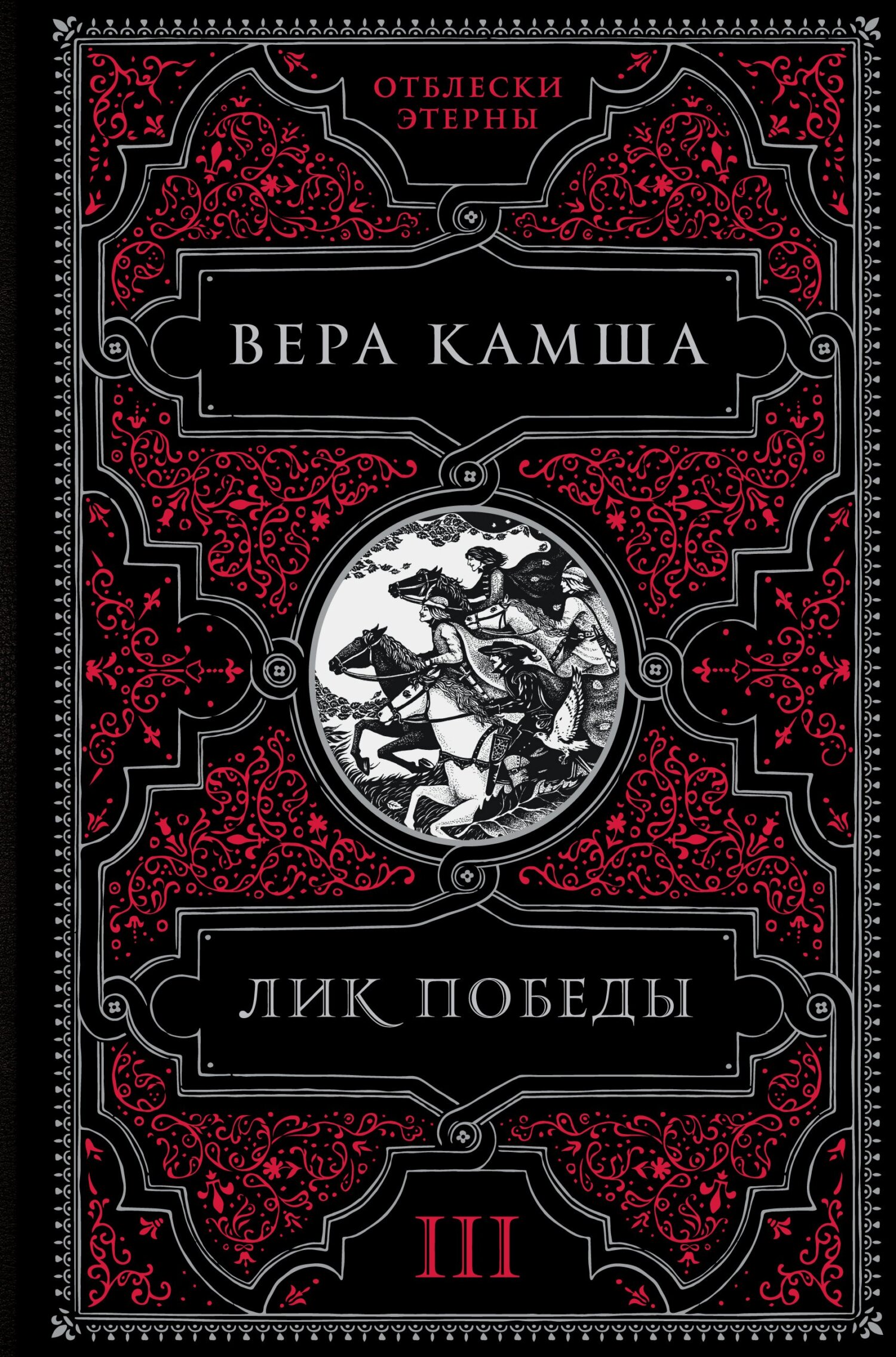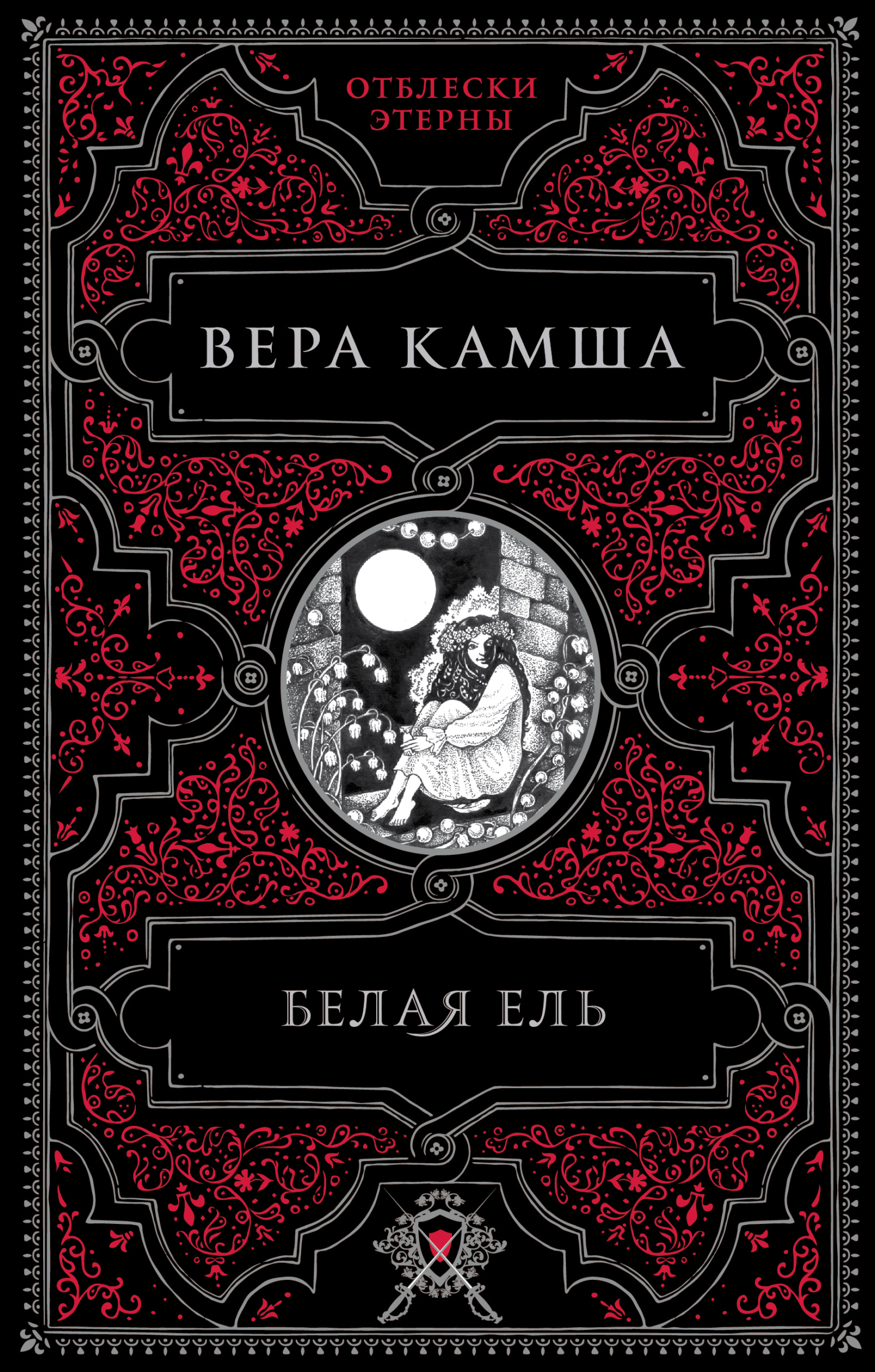к ели, нас не жди.
Назад? Почему? Ласка уже повернула, помчалась голова в голову с конем Пала. Вороному Миклоша было не угнаться за свежими лошадьми, и муж придержал Кремня. Ему, значит, можно! Барболка натянула повод, переводя кобылу в легкий галоп.
– Барболка, вперед!
– Нет, – дерзко выкрикнула господарка-пасечница, – взял за себя, так не гони!
Пал не ответил. Значит, услышал.
Конские копыта ломали ночную тишину, словно весенний лед, справа выплыл из-за иззубренной еловой стены умирающий месяц, полетел рядом с всадниками. Дурная примета. Как долго они скачут, целую вечность, но вот и поляна. Туманная дымка над неугомонным ручьем, светлые камни, дерево рвется в небо черной диковинной башней.
Пал останавливает Кремня, прыгает на землю.
– Отпустите коней.
Барболка зацепила поводья за седельную луку. Ласка потянулась к хозяйке мордой и вдруг вскинула голову, захрапела от ужаса и бросилась к ручью. Кремень и вороной Миклоша кинулись следом и замерли посреди текущей воды.
– Где они?
– В ручье.
– Они знают, что делают. Барболка, живо на конский камень. Миклош, подсади ее.
Конский камень? Ах да… Сильные руки подхватывают женщину, ставят на валун среди ручья. Тот самый! Миклош помогает Палу взобраться на соседний, храпят и жмутся друг к другу забившиеся в воду кони. Охотнички вечные, Магна! С ребенком… Опять за свое взялась!
– Миклош, – кричит мельничиха, – где ты, Миклош? Почему ты меня убил? Почему забрал золото? Почему отпустил помощничков? Теперь тебе на меня работать не переработать…
6
– Миклош, – зовет Аполка, – где ты, Миклош? Почему все время уходишь?
– Миклош, – отец в иссеченном гайифскими саблями доспехе зажимает рану рукой, – где ты, Миклош?
– Миклош, – Янчи со связанными руками опускается на колени, на щеке рабское клеймо, – где ты, Миклош?
– Миклош, – Барболка тянет к нему обнаженные руки, – где ты, Миклош?
Барболка?! Но вот же она! Рассыпаются, стекают с трех лиц родные черты, три Аполки стоят и смеются, четвертая поднимает над головой белый сверток:
– Возьми сына, Миклош, мне тяжело его держать, я его сейчас уроню…
Весь мир заполняет отчаянный плач. Это не морок. Все, что угодно, только не это!
– Нет! – вскакивает Миклош. – Не смей!
– Я тебя вижу! – кричит первая Аполка.
– Поцелуй меня, – улыбается другая, сбрасывая с плеч сорочку.
– Накорми меня, – просит третья.
– Иди ко мне, – обещает четвертая, – иди, я отдам тебе сына.
– Будь ты проклята, ведьма!
– Ты сам себя проклял!
– Ты меня обманул!
– Ты меня не любишь…
– Твоя клятва на твоей шее, твой грех на твоем сыне.
– Иди ко мне, Миклош… Ты – мой, сын – твой. Отдай себя, возьми его. Смотри, вот он, вот!
– Будь по-твоему, гадина!
– Стой! – Хватка у сакацкого господаря была все еще крепкой. – Не ходи… Себя погубишь, сына не спасешь.
– Пал, я должен!
– Нет!
7
Это сын Миклоша! Охотнички вечные, это сын Миклоша!
Пал держал господарского сына за плечи, хрипели, роняя клочья пены, ошалевшие от ужаса кони, а на краю поляны смеялась, трясла белым свертком Магна, поправлял шляпу Феруш, супил брови папаша да крутила хвостом довольная Жужа. Отец, бывший жених, убитая ведьма, собака… Они знали Барболку Чекеи, они пришли забрать свое… Ну почему, почему за нее должны платить Миклош, Аполка, их ребенок? Она сама за себя ответит!
Барболка судорожно вздохнула и перекинула косы на грудь. Жить хотелось отчаянно, до воя, но ничего не поделаешь, сама во всем виновата. Взяла браслет из дури да корысти, отдавай теперь руку с головой.
Жужа шагнула вперед, из открытой пасти вывалился язык, словно в жару. Феруш поправил жилетку, Гашпар Чекеи ругнулся и поскреб голову, будто со сна. Магна осклабилась и еще выше подняла ребенка. Ведьма подлая, она же всегда всех ненавидела, такие только и умеют, что злобствовать да завидовать. Их хоть в золоте купай, хоть на облако посади, все одно ядом изойдут и все вокруг потравят.
Барболка снова глянула на разряженную мельничиху, слишком подлую, чтоб ее бояться, и рванула гребни, отпуская на свободу волосы. Таких кос у Магны на этом свете не было и на том не выросло.
Теплый водопад окутал плечи, стало легко и весело, словно в танце, и господарка сакацкая соскочила с камня и сперва пошла, а потом побежала вперед к упивающейся победой твари.
– Барболка! – крик Пала резанул по сердцу и стих.
– Барболка, нет! Не-е-ет!!! – Миклош, а ему-то что до нее? Сына б лучше стерег…
Плач Лукача, конское ржанье, шум ветвей, лунные искры в глазах, сзади ничего нет, впереди – ведьма. Глаза зеленые, словно зацветший, становящийся болотом пруд, богатые серьги, дареный знатным полюбовником золотой браслет… А жемчуга ветряного не хочешь, гадина ты ядовитая?!
Как втекло в руки белое ожерелье, Барболка не поняла, но изловчилась захлестнуть им полную белую шею. Мельничиха рванулась, заревела дурным голосом, выронила ребенка, замолотила по воздуху серыми копытами, в нос ударила вонь век нечищенного стойла. Исчезла Магна, ровно никогда не бывала, только седая ослица рвалась с жемчужного повода.
– Мармалюца! – Кто кричит? Миклош? Пал? Она сама?
Чудище из ночных мороков клацает бурыми зубами, из ноздрей валит ледяной пар, руки немеют, но она сдержит мармалюцу, ведь там, сзади, Пал…
Охотнички вечные, помогите! Как она оказалась на плешивой жирной спине? Как держится? Надо прыгать, только нельзя: ночь не кончилась, мармалюца вернется, второй раз ее не поймать. Холодное чудище визжит, бьет задом, скачет на четырех ногах, вскидывается на дыбы, но она не выпустит тварь, ни за что не выпустит! Мармалюца ревет, срывается с места, несется сквозь черный гниющий лес. Впереди – болото, голодное, страшное. Откуда оно? Рядом с Сакаци – горы, горы и лес…
Бесконечная бугристая равнина, жидкие камыши, под нечистым льдом – бездонная прорва, в ней так долго умирать… Трещит, ломается ненадежный предвесенний лед, чавкает под копытами проснувшаяся топь, всплывают со дна, лопаются черные пузыри. Не спрыгнуть, уже не спрыгнуть. Но и тварь упустила срок, ей теперь не найти путь назад, самой – не найти.
Глаза ест зеленый дым, сердце сейчас разорвется… Не сердце – связавшая тварь ветровая нить. Веером разлетаются в стороны белые теплые искры, наливаются рассветной кровью, падают на лед, в воду, в грязь. Вскрикивают и смолкают колокольчики, растет, приближается бурая полынья, длинная, похожая на сапог, над ней пляшет, кривляется зеленое марево. Мармалюца визжит, рвется вперед и тает, растекается липким гнилостным туманом.
Щетка болотной травы, несытая, холодная жижа, пустота, паденье… Охотнички вечные, как же страшно! Мамочка, Пал!.. Всё…
J. Brahms. Ungarische Tänz Nr 5 [10]
Одинокий крик, смерть, тишина и красное небо над черным зубчатым лесом. У любви,