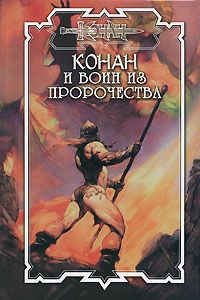— Вот и я об этом думаю… — вздохнул Арилье.
— Расскажи, в кого ты влюбился на этот раз, — в темноте было слышно, что Траванкор улыбается. Он был рад перевести разговор на более приятную тему.
— Это случилось на качелях, — прошептал Арилье так бережно, словно боялся спугнуть робкую птичку. — Она была рядом. Совсем близко… — Он замолчал, бережно восстанавливая в памяти образ девушки. — Ее глаза, волосы… Как я не замечал этого раньше? Мы всегда были просто друзьями. Она и сейчас, наверное, так обо мне думает.
Траванкор тихо засмеялся.
— Да нет, Арилье, она всегда была влюблена в тебя.
Арилье метнулся вихрем, стиснул руки друга — Траванкор поразился тому, какими горячими были его ладони.
— Правда? Влюблена? Ты действительно так считаешь?
— Ну конечно… Гаури тебя любит с самого детства. Вечно вы с ней разыгрывали нас с Рукмини. Помнишь, как вы напали на нас из засады, напялив жуткие маски? Я в первый миг даже испугался. Правда.
— Гаури? — Казалось, Арилье не понимает, о чем идет речь. Он помолчал немного, а потом упавшим голосом повторил: — Гаури?
Стало очень тихо. Все слова вдруг разом закончились. Трижды прозвучало имя Гаури — лишь для того, чтобы обоим друзьям стало ясно: речь идет вовсе не о Гаури.
В темноте друзья глядели Друг на друга. Несмотря на мрак, Траванкор вдруг отчетливо разглядел лицо Арилье: растерянно раскрытые глаза, изогнувшийся в гримасе рот. Траванкор встал и вышел, так и не промолвив больше ни слова.
Арилье не стал его останавливать. Ему хотелось остаться одному. Звезды не падали с небес, и голова больше не кружилась. Только пропасть разверзлась под ногами, и теперь Арилье ощущал ее реальность больше, чем когда-либо. Он подобрал женское покрывало, выпавшее из руки Траванкора, поднес к губам, вдохнул едва уловимый запах волос Рукмини.
— Значит, ты тоже любишь ее? — прошептал Арилье, зарывшись лицом в тоненький лоскуток ткани.
Если бы покрывало — маленький предатель — и могло бы говорить, ответа все равно бы не понадобилось.
* * *
Траванкор долго стоял в темноте, наедине с ночью и своими мыслями. Ждал, пока успокоятся чувства, пока взбудораженные мысли уйдут и останется только покой. Шлока учил из любой бури чувств возвращаться в состояние полного покоя: только тогда человек начинает думать по-настоящему ясно, и весь мир предстает познаваемым, как бы прозрачным, проницаемым для мысли.
Покой наконец пришел; вместе с ним пришла и ясность. И ничего доброго в этой ясности не было. Они с Арилье любят одну и ту же девушку. Друзья с детства, товарищи юности, будущие соратники в предстоящей большой войне. Женщина не должна стоять между ними. Но как же быть? Неужели ему суждено отказаться от Рукмини?
Никогда больше не будет той простоты в их отношениях с Арилье… И это, наверное, — часть взросления. Когда Шлока говорил о взрослении как о поре утрат, молодые люди не верили. Думали: учитель готовит их к неизбежным потерям. Ясное дело, ведь во время сражения можно потерять глаз или руку, а кто-нибудь из близких друзей даже будет убит.
Но Шлока говорил о больших потерях, о разрыве прежних душевных связей, таких привычных и определенных, об утрате простоты и опасности запутаться в сложностях. Не пережив нечто подобное па собственном опыте, трудно понять до конца, что это такое.
Помедлив, Траванкор отправился в комнаты, где всегда жил Шлока, когда останавливался во дворце раджи.
Шлока не спал. В масляной лампе, стоявшей на столике, горел маленький огонек, заливающий всю комнату теплым уютным светом. В комнате не было никаких украшений, только постель, столик и несколько ковров на полу. Перед Шлокой лежала книга — одна из драгоценностей, что хранились у Авенира.
Мудрец не читал, просто рассматривал миниатюры, украшавшие почти каждую страницу.
Он встретился взглядом с вошедшим, невесело улыбнулся.
— Вижу печаль в твоих глазах, Траванкор.
Траванкор опустил веки, показывая: это неважно. И Шлока не стал говорить о том, что собеседник счел неважным. В этом тоже была заметна примета взросления: учитель начал демонстрировать открытое уважение к желанию или нежеланию ученика говорить о том или ином предмете. Будь Траванкор в другом настроении, он вздрогнул бы от радости. Но сейчас он просто принял случившееся как должное.
С еле заметным укором в голосе Шлока продолжал:
— Если ты посмотришь в мои глаза, то увидишь еще большую грусть…
А! Упрек справедлив: поглощенный собственными переживаниями, Траванкор действительно не обратил внимания на чувства собеседника. Изрядный промах.
Шлока, впрочем, не дал ему времени погрузиться в раздумья по этому поводу. Заговорил сам, задумчиво и откровенно, как с равным:
— Наши князья опять не смогли договориться. Один тащит всех в болото, другой лезет на гору… Не будет толку от таких переговоров. Ты уже не мальчик, Траванкор. Пришло время и тебе принять участие в судьбе Патампура.
Эти простые слова стали последним рубежом: они окончательно отсекли годы юности и оставили Траванкора наедине с наступающей зрелостью. Рукмини, чувство к ней, дружба с Арилье, вдруг ставшая такой запутанной, осложненной двойным соперничеством — и в военном искусстве, и в любви, — все отошло назад.
И медленно, словно произнося торжественную клятву и посвящая себя единственно важной цели, Траванкор проговорил: — Ты прав, учитель.
Глава седьмая
Знамение Черной Матери
Напрасно считают легкомысленные люди, будто произнесенное слово — всего лишь звук: вот оно звучит — и вот уже нет его, как будто и не было! Есть такие слова, что могут потревожить богов и демонов, вызвать среди них смятение, и смятение это передастся людям, которые умеют разговаривать с богами и получать от них ответы.
Вот и клятва, которую Траванкор давал самому себе, достигла слуха незримых существ, что обитают в воздухе. Давно уже ожидали они, когда прозвучит эта клятва. Немало времени прошло с тех пор, как впервые было услышано предсказание о рождении грядущего воина, человека, которому суждено победить Аурангзеба и вернуть былое величие Патампуру. Недоброжелательным демонам оставалось только затаиться и выжидать: когда этот предреченный мудрецами воин выдаст себя впервые.
И вот это произошло.
Демоны услышали и передали услышанное жрецу Кали — самому мудрому, самому одаренному из всех. Вот уже много лет неустанно, день и ночь, молясь у статуи Кали, посреди джунглей, в полуразрушенном храме, Санкара вопрошал их об этом.