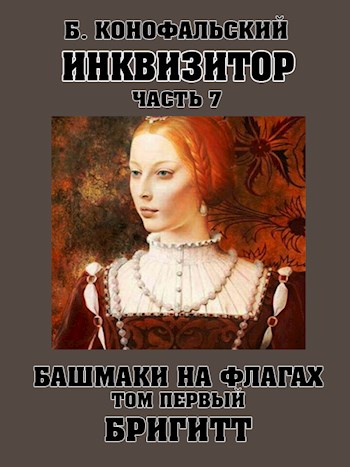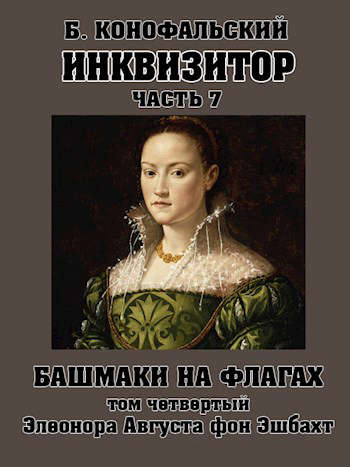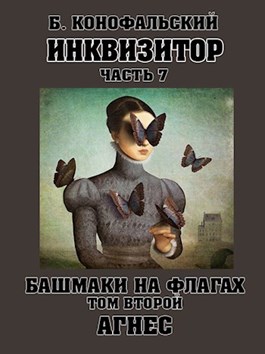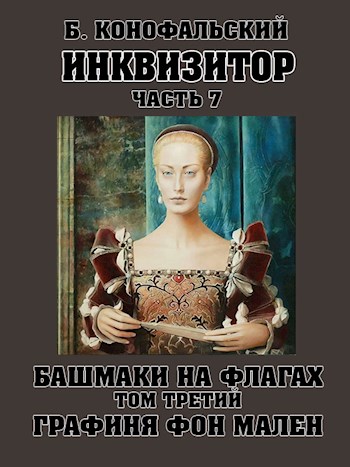себя проговорил кавалер и спросил у вора: – А этот Ульм и его люди, конечно, не из Малена были?
– Нет, господин, не маленские они.
– А откуда же?
– Не знаю, господин. Может, из Вильбурга.
– И что случилось после того, как сказал ты Ульму, что я у купца обедаю?
– Господин, – захныкал Ганс Фегерман, – я не виноват, я хотел уже уйти…
– Говори, сволочь! – Волков опять занес хлыст, но пока не бил.
– А-а! – заорал вор и заговорил скороговоркой: – Ульм мне сказал, чтобы я вызвал вас к епископу. Сказал, что даст мне монашеское одеяние. Я отказывался, но он в ответ, мол, я все равно уже замазан, а пять талеров мне не помешают.
– Он тебе еще пять монет дал?
– Да, господин, – вор указал на Сыча, – эти господа у меня все забрали, у них все мои деньги.
– И ты согласился?
– Я почувствовал неладное, господин, я испугался, но Ульм пообещал, что прирежет меня прямо за углом, если я не соглашусь, и послал со мной человека, чтобы я не сбежал. Тот держал меня за капюшон, когда я шел к дому купца.
– Он велел вызвать меня к епископу?
– Да-да, и дал мне пять монет, и еще сказал, чтобы я не торопился и пришел в дом купца уже ближе к сумеркам, но я волновался, что в темноте тот человек, что вел меня, меня зарежет и заберет серебро, и поэтому двигался быстро и пришел, когда было еще светло.
«Слава богу, что ты еще и трус. Дождись они темноты, я бы их не заметил».
– Значит, ты не знаешь, что это были за люди?
– Нет, господин, не знаю. Клянусь Богом, не знаю, я бы все сказал, но не знаю ничего.
– Испугался он, экселенц, мы его не в городе нашли, в деревне у сестры прятался, паскуда. Все понял, когда узнал, какую он кашу заварил, почуял, что набедокурил, и бежать кинулся.
– А ты с трактирщиком о бригантах не говорил? – спросил Волков.
– Как же не говорить, говорил! Все у него спросил. Он рассказывал, что заказывали, что пили, говорит, что они не скаредничали и что серебро заранее делили, прямо в кабаке. Видно, им часть денег вперед дали. Но сильно не пили, вели себя тихо. Хотя по виду люди весьма злые были, резаные, колотые, ремесла либо воинского, либо разбойного.
– А еще трактирщик сказал, что среди них и грамотные имелись, этот самый Ульм записки читал, что ему приносили, а один из них письмо на почту отправлял, – добавил Еж.
– Записки? Письмо на почту? – сразу насторожился кавалер.
– Ага, мальчишку посыльного один из них с письмом на почту снарядил, – говорил Еж.
А Сыч сразу смекнул, хлопнул себя по лбу.
– Эх, балда я!
– Конечно, балда! – строго сказал Волков.
– Надо ехать в Мален на почту!
– Поезжай, почтмейстер Фольрих мой хороший друг, скажите, что вы от меня. Он должен помочь.
– Сейчас поедем, экселенц, только пообедаем.
Волков повернулся и направился в дом, где на пороге его, как всегда, ждала не жена, а, конечно же, госпожа Ланге. Как всегда, в чистом платье, с белоснежными кружевами, прическа – волос к волосу, сама улыбается, а на лице уже видны веснушки.
– Здравствуйте, господин мой! – Она сделала книксен.
Очень захотелось Волкову ее обнять, к груди прикоснуться, к крепкому заду ее, хоть даже через платье, да нельзя: кругом люди, слуги.
– Рад вас видеть, госпожа Ланге.
Он передал ей перчатки и берет, уже почти прошел в дом, а тут Сыч кричит:
– Экселенц!
Волков повернулся к нему.
– А с этим что делать? – Фриц Ламме толкнул вора в спину.
Волков не раздумывал ни мгновения.
– Найди брата Ипполита, пусть исповедует, – отвечал кавалер. – Потом повесь.
– А-а-а! – заорал вор. – Господин, простите, простите…
Сыч снова ударил пленника крепким кулаком в бок.
– Да не ори ты, оглашенный.
Вор поперхнулся и упал на землю, затих сразу. А Сыч снова закричал:
– А где повесить-то его? На заборе?
– Экий ты дурень, Фриц Ламме, – отвечала ему Бригитт Ланге, а не кавалер, – зачем же дрянь всякая на нашем заборе нужна. Архитектор уже давно на перекрестке хорошую виселицу вкопал, там и вешай его, подлеца.
– Это там, где кузнец новую кузню поставил, на том перекрестке?
– На том, на том, – ответила Бригитт и закрыла дверь.
Она молодец, она все знает, что дома и хозяйства касается. Волков пропустил женщину вперед и, пока нет никого, ухватил за зад. Госпожа Ланге улыбнулась, но руку его отпихнула. Не до того сейчас: полон дом людей.
Госпожа Эшбахт, после того как узнала, что рыцарь дома не останется, а как поест, так уедет в Мален, изъявила желание говорить с ним.
– Так говорите, – отвечал он, поудобнее устраиваясь в кресле.
– Хочу говорить, чтобы лишние уши не слыхали, – говорила жена, прося кавалера подняться к ней в покои.
А Волкову неохота вставать, нога после езды еще болит. Да и странно то, что говорить жена желает наедине. Хотя монахини, что сидит на скамье у стены, Элеонора Августа никогда не стеснялась, а больше в обеденной зале нет никого.
– Тут говорите, – предложил он, – нога болит по ступеням скакать.
А госпожа Эшбахт в слезы ни с того ни с сего.
«Господь Вседержитель! Да откуда у нее их столько, постоянно плачет, а раньше, когда зла была, слез почти не было».
Монашка, еще одна зараза в доме, сидит, губы скривила, на него косится.
«Выгнать бы ее к чертям, пусть катится в свой монастырь. Она жену подбивает на всякое, не иначе. Да нельзя, вроде как от отца Теодора ее в дом взял и вроде для дела – за беременностью жены смотреть».
– Что же вы рыдаете, госпожа моя? Что опять не так? – морщась спрашивал он.
– Дом как чужой мне, – сквозь слезы бормотала госпожа Эшбахт. – Все не так тут.
– Так что же тут не так? – недоумевал кавалер.
– Все не так, все! Вы-то знаете, что не так, знаете, о чем я! – говорила она, рыдая, да еще и с упреком, как без него.
– Нет, не знаю, вы уж меня просветите, что не так с нашим домом, – отвечал он тоном терпеливого человека.
Тут Элеонора Августа даже рыдать на миг перестала, стала холодной, как прежде, колючей.
– Не могу я жить под одной крышей с беспутной женщиной.
– Вы то про госпожу Ланге говорите? – уточнил Волков, хотя что тут уточнять.
Жена молчала, словно ей даже противно имя это повторить. Но то, что речь идет о Бригитт, и по ее лицу было понятно.
Кавалер посмотрел